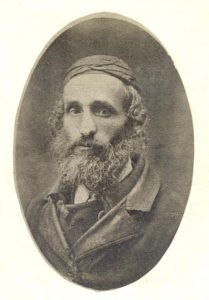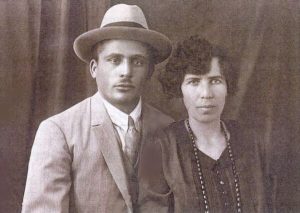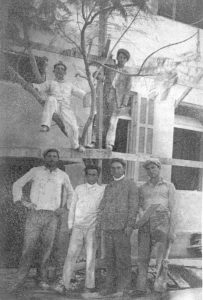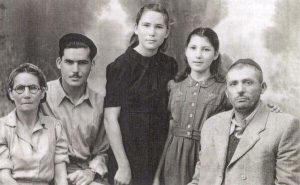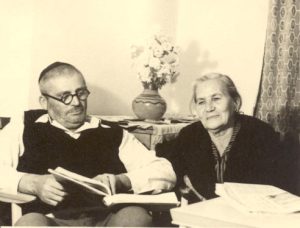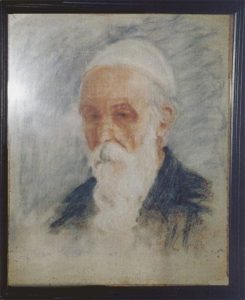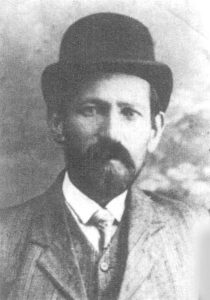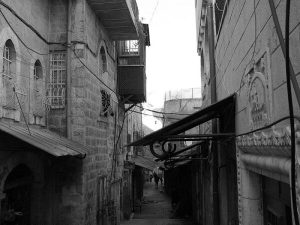Воспоминания
Перевод с иврита Эстер Кравчик
Кфар Ганим
От переводчика
Шошана Цуриэль-Штерн родилась и живет в Петах-Тикве. Она родилась в 1930 году, когда Петах-Тиква была мошавой (еврейским сельскохозяйственным поселением), сейчас это большой город к востоку от Тель-Авива. Семья её матери живет на земле Израиля уже 160 лет. Дядя матери Иегошуа Штампфер был одним из основателей Петах-Тиквы, и одна из улиц города носит его имя. Само название Петах-Тиква переводится с иврита как «ворота надежды».
Отец Шошаны приехал в 1921 году из Восточной Европы, из Трансильвании. Он относился к той части еврейской молодежи, которой вместе с сионистскими идеями руководила искренняя вера и еврейские традиции.
Детство Шошаны, ее брата и сестры прошло, в основном, в деревне рядом с Петах-Тиквой (сейчас это один из городских районов) под названием Кфар-Ганим, что переводится как «деревня садов». Хотя название звучит почти как райский сад, жизнь там была далеко не райской. И, конечно, семейная история неотделима от мировой истории двадцатого столетия и истории государства.
Шошана писала свою документальную повесть не для публикации в печати, но мне она показалась настолько интересной, правдивой и живо написанной, что у меня появилось желание познакомить с ней своих родных и друзей, которые читают по-русски.
Я хотела бы сделать несколько оговорок. В отношении названия места на земле, где мы живем, принято употреблять просто слово «Страна» (имеется в виду Страна народа Израиля, т.е. еврейского народа, Эрец-Исраэль), независимо от того, когда происходит действие, до образования государства Израиль или после этого события.
Не всегда автор соблюдает строгую хронологическую последовательность событий, но ведь воспоминания всплывают из глубин нашей памяти спонтанно.
Некоторые слова на иврите звучат более образно, чем в переводе, например слово «пардес», которое обозначает апельсиновую плантацию. Они незаметно вошли в нашу русскую речь, и, мне кажется, будут уместны и в этом повествовании.
***
Ицхак родился 11 элула 5658 года по еврейскому календарю (1898) в местечке Рускова в Трансильвании у подножия Карпат в семье рава Иоселя и Ройзы Кац, в хасидской общине, которая жила там и ждала прихода Мессии. Во всем, что касалось вопросов религии и веры, хасиды не признавали компромиссов. Рав Йосель был главой этой общины.
Семья жила сельским хозяйством: выращивали пшеницу и кукурузу и всё, что надо было для дома. В хлеву была корова, она обеспечивала семью молоком, творогом и сметаной к мамалыге. Были во дворе также и гуси – их откармливали на мясо, а пух их шел на одеяла, которые грели в зимние морозы.
Евреи жили в городке бок о бок с румынами и венграми; были между ними и торговые связи. Рав Йосель Кац был также меламедом (учителем – перев.) детей еврейской общины, и в этом качестве был известен своей строгостью. Он не отступал от своего, пока ученики не выучивали урок назубок. После окончания второй мировой войны я встречала людей, которые, уцелев после катастрофы, приехали в Израиль, и они говорили мне, что своими познаниями в Торе и в Талмуде они обязаны своему учителю раву Йоселю Кацу; из почтения к нему стали они в свое время прилежными учениками.
Йосель Кац, глава хасидской общины в местечке Рускова
Жители этой местности, в т.ч. и евреи, отличались большой физической силой, по-видимому, благодаря прозрачному горному воздуху и жизни на лоне природы.
Трансильвания тогда относилась к Австро-Венгерской империи, во главе которой стоял его величество император Франц-Иосиф. Он был настолько терпим по отношению к евреям, что они даже молились за его здоровье.
Когда разразилась первая мировая война Ицхака и остальных парней его возраста призвали в австро-венгерскую армию, и вместе они переносили тяготы войны.
Период войны был очень тяжелым для всей остальной семьи. Линия фронта проходила неподалёку от того места, где они жили, и солдаты время от времени по приказанию своих офицеров разоряли их хозяйство и отбирали все, что попадалось под руку, будь то скот или урожай с поля, так что семья почти совсем обнищала.
После того, как страны Оси потерпели поражение в боях, и район Трансильвании был захвачен союзниками[1] и перешел в руки Румынии, Ицхака снова призвали на службу теперь уже в румынскую армию.
После завершения боев и окончания войны вернулся Ицхак в родной дом, огляделся и пришел к выводу, что он не видит для себя будущего в родном местечке, и нет никакой причины оставаться там, в стране изгнания под властью румын-антисемитов.
К этому времени начали дуть свежие ветры из земли отцов, на которую он уповал и о которой молился каждый день. Начали также прибывать в городок посланцы из тогдашней Палестины, которые приносили идеи сионизма. Огромное впечатление произвели на него «кровавый навет» – обвинение, выдвинутое против Менделя Бейлиса,[2] дело Альфреда Дрейфуса.[3] В результате всего этого он решил, что должен покинуть родительский дом и отправиться как халуц (пионер, первопроходчик – перев.) в Землю Израиля.
Он не был единственным сыном в семье, были у него еще два брата и две сестры, которые оставались с родителями. Отец был против его решения и утверждал, что нет никакой причины торопить события, и что жить там опасно из-за бесчинств арабов.
Однако после многочисленных споров и попыток его убедить он благословил сына на дорогу с условием, что обещает тот не забыть заветов родительского дома, будет прямым, не отвернется от веры отцов и будет творить добрые дела по чести и по совести. И действительно, Ицхак был верен этому обещанию, не отступал от него ни на йоту до последнего своего дня.
Он заработал немного денег, простился с родителями, братьями и сестрами и поднялся на корабль, который перевозил скот в Палестину. В качестве платы за проезд он нанялся ухаживать в пути за коровами.
И вот, одним ясным утром он сошел с корабля на берег Яффо, освобожденный от своих денег и пожитков, которые украли у него матросы-румыны. И, хотя не было у него денег, чтобы доехать до Петах-Тиквы, не отчаялся и шаг за шагом пошел пешком. Это был 1921 год (по еврейскому календарю 5681); передвижение по дорогам было смертельно опасным из-за бесчинств арабов. И в этот раз около пардесов, в середине пути он встретил араба, попросил указать дорогу на Петах-Тикву и по указанной дороге пошел дальше. Шел он быстро, пока еврейские рабочие с пардесов не окликнули его и не спросили, куда он направляется. «В Петах-Тикву», – ответил Ицхак. Тогда они закричали: «Товарищ, твое счастье, что мы вовремя тебя заметили. Дорога, по которой ты идешь, ведет прямо в арабскую деревню. И, если ты туда попадешь, никогда оттуда не вернешься». Так, к нему повернулась удача; живым и невредимым добрался он до Петах-Тиквы.
Накануне прибытия Ицхака в мошаве были похороны четырех жертв нападения на Петах-Тикву весной 1921 года: Авшалома Гисина, Натана Раппопорта, Хаима-Цви Гринштейна и Зеэва Орлова, да будет благословенна их память.
На их могиле в гневе поклялись отцы поселения и его земледельцы не иметь больше дела с работниками-арабами, которые были против своих работодателей-евреев, напали и убили их, а брать на работу только евреев-халуцим (мн. число от «халуц» – перев.). Эти слова поддержали молодых халуцим, которые буквально голодали из-за отсутствия работы. Многие из них вернулись в страны исхода из-за отсутствия выбора и погибли в Катастрофе во время Второй мировой войны, среди них были хорошие приятели Ицхака. Среди молодежи были и такие, которые не решались вернуться домой, встретиться с родными, которые были против их отъезда в Палестину, и они наложили на себя руки.
Эта неделя траура не выдержала проверки временем, так как для земледельцев Петах-Тиквы выгоднее было иметь дело с рабочими-арабами из-за низкой заработной платы, которой те довольствовались. А халуцим по-прежнему оставались без работы и голодали.
Ицхак из-за своей физической силы и добросовестности был «желанным» работником у землевладельцев и хозяев пардесов. Он также довольствовался малым и скопил небольшую сумму денег, чтобы купить десять дунамов (один дунам равен 1000 кв. м – перев.) земли в Кфар-Ганим.
Еще в его родительском доме было принято не работать не только в праздничный день, как делают в Израиле, а всю праздничную неделю. Поэтому, когда подошел праздник Песах, Ицхак был в растерянности: если не работать неделю, не будет у него средств на жизнь, да и хозяин может отказать ему в работе. Что делать? Как было принято в общине, где он вырос, пошел к раву и рассказал ему о своей проблеме: работать ли в праздничную неделю или сидеть дома и праздновать? Ответил ему рав: «Сын мой, будет у тебя еще много с Б-ей помощью праздничных недель в стране Израиля, но не всегда будет у тебя работа. И, если на твое счастье, она у тебя есть, не дай ей уйти сквозь пальцы. Иди и работай в праздничную неделю, и Б-г тебе в помощь».
Первые два года по прибытии в Страну жил Ицхак в палатке вместе с друзьями – халуцим, питался в рабочих столовых, где пищу готовили девушки из их же среды, а в дни, когда оставался без работы, обходился буханкой вчерашнего хлеба, который был дешевле, и селедкой на весь день.
Ицхак стал в мошаве одним из первых членов «ха-поэль ха-мизрахи».[4] Он был человеком религиозной веры и труда в полном смысле этого слова: иногда он участвовал в собраниях и танцевальных вечеринках вместе со своими товарищами «мизрахистами», однако чаще всего его можно было найти после рабочего дня в синагоге за вечерней молитвой, а после молитвы за изучением Танаха и Талмуда, чему он посвятил всю свою жизнь до последнего дня.
Ицхак обратил на себя внимание одного из братьев Глобман, который оценил молодого халуца благодаря этим его качествам и сосватал его со своей родственницей Эстер Штампфер из Иерусалима. Она обычно приезжала в Петах-Тикву навестить родственников, когда была свободна от работы в доме для сирот. Эстер была дочерью рава Авраама Штампфера, младшего брата рава Иегошуа Штампфера, одного из основателей Петах-Тиквы, и Дины, дочери рава Акивы Гольдшмидта (Нейфельда), который был ювелиром в старом городе в Иерусалиме. Молодые люди обручились, в добрый час, и стали женихом и невестой.
Однажды, будучи приглашены на праздничный обед в честь жениха и невесты в дом дяди Мотла и тети Сарры Бен-Цион, которые жили в Тель-Авиве и были людьми обеспеченными, Ицхак и Эстер принарядились и отправились по направлению Эхуд-Регев на автобусную остановку. По дороге Эстер обратила внимание на фигуру, следовавшую за ними: они поворачивают вправо, и паренек поворачивает вправо; они поворачивают влево, и паренек идет влево, как будто привязанный к ним. И тогда Эстер спросила своего жениха, знает ли он, кто это следует за ними. «Да, знаю, – ответил Ицхак шепотом, – это халуц, мой приятель. У него нет работы, и уже несколько дней он не ел досыта. Я сказал ему, чтобы пошел с нами к богатому дяде, и там он получит вкусный обед». Это были тяжелые времена для молодых халуцим.
Свадьбу праздновали в кругу семьи в Петах-Тикве. Мать невесты Дина Штампфер, её братья и сестры приехали из Иерусалима. После хупы все собрались для семейной фотографии: в центре стоят жених с невестой, рядом с ними сестры невесты, внизу сидят дядя Менахем-Иегуда Штампфер с белой бородой, мать невесты Дина со старшей дочерью и внучками и еще многие члены семьи, некоторых я уже не могу назвать, и жаль, что уже не у кого спросить их имена. После свадьбы молодые сняли маленькую квартирку в Петах-Тикве, и с помощью небольших денег, которые Эстер смогла собрать, работая в Иерусалиме, начали строить дом на земле в Кфар-Ганим. Ицхак научился в Израиле строительному делу и строил дом своими руками. Он использовал каждую свободную минуту между работой на пардесах или на стройке для строительства своего дома. Он работал даже в праздник трудящихся 1 Мая, пока не увидели его рабочие сидящим на верблюде в караване, который вез строительные материалы на место постройки дома. Они сбросили его со спины верблюда и предупредили, чтобы не смел больше осквернять праздник трудящихся 1 Мая…
Когда стены дома уже были построены, кончились деньги, и не было возможности закончить работу и сделать крышу; и все таки решили Ицхак и Эстер, мои родители, переехать жить в свой дом. Ещё было лето, погода стояла приятная, дули прохладные западные ветры, и не чувствовалось отсутствие крыши. Решено было её построить, когда они заработают немного денег.
Время шло быстро, уже приближались осенние праздники Рош-ха-Шана, Йом-Кипур и Суккот.[5] Уже построили в деревне бейт-кнесет («синагога» на иврите – перев.), и привели раввина, чтобы его освятить. И тогда, без всякого предупреждения пошел проливной дождь, и молодая пара залезла в своем доме под стол, только там они нашли убежище от ливня. Назавтра купил Ицхак полотнища брезента, который использовали для палаток, и на время покрыл им крышу, пока они не набрали денег на черепицу.
Ицхак и Эстер Штерн в молодости
Однажды в повозке, запряженной лошадью, рядом с кучером, тянущим вожжи, появилась тетя Сарра Бен-Цион. Они остановились около дома в Кфар-Ганим, и она приказала кучеру выгружать из повозки кухонную посуду и другие домашние принадлежности, которые могли пригодиться молодым в хозяйстве. Тетя сказала Эстер, что они уезжают в Америку, и нет никакого смысла вести с собой домашний скарб, лучше отдать молодой чете.
Среди этих вещей были стенные часы с гравированным маятником, которые уже в те дни видали лучшие времена. Потом эти часы висели в доме моих родителей в течение всей их жизни, и можно было услышать их бой каждые полчаса. И сейчас, когда им примерно сто лет, они висят в моем доме и показывают время на удивление точно.
Часы эти служили отцу тайником для маленьких сокровищ, близких его сердцу. Когда я была маленькой, мне было очень интересно узнать, что у часов внутри.
Однажды я с большим усилием придвинула к стене обеденный стол, поставила на него стул, взобралась на стул и открыла дверцу часов. Внутри я нашла маленький песенник со словами песен, которые папа любил петь:
«Мы приехали в Страну», «Кто спасет нас от голода», «Кто построит дом в Тель-Авиве» и многие другие песни времен халуцим, которые приехали строить Страну. У папы был хороший музыкальный слух и приятный голос, и иногда он учил меня петь эти песни.
Строители Тель-Авива, 30-е годы, крайний слева стоит Ицхак Штерн
Земля в Кфар-Ганим продавалась дешево, потому что была бесплодна и годилась только для посадки цитрусовых. При покупке на каждую семью выделялось десять дунам, чтобы можно было построить дом, посадить маленький пардес и основать подсобное хозяйство. Получилось так, что между нашим домом и самой деревней было продано много участков якобы членам одной семьи. Они покупали участки для каждого из детей, внуков и даже правнуков, которые ещё не родились, и посадили большой пардес. Этот пардес отделил нас от остальной деревни, и мы оказались отрезанными. Мощеная дорога до нас не доходила, и мы утопали в песках. У нас не было электричества, хотя оно имелось в деревне, не было воды в кране, мама таскала воду в баках из деревни. Отец посадил рядом с домом маленький пардес и огород.
Первенец Авраам родился в 1927 году в больнице «Бикур холим» в Иерусалиме. Когда мама вернулась домой в деревню после продолжительного пребывания в Иерусалиме, рядом не было ни одной живой души, чтобы можно было перемолвиться словом или посоветоваться. Вокруг стояла полная тишина, слышен был только шум мотора в те дни, когда качали воду из колодца для полива пардесов. В такие дни мама была освобождена от необходимости таскать воду из деревни.
Так прошел год и еще полгода; ситуация в стране стала более опасной: группы бандитов нападали на еврейские поселения и транспорт, и вершиной этого стало нападение на евреев в Хевроне в 1929 году. Многие были убиты и ограблены, и среди них учащиеся Хевронской ешивы.
После этих событий в мошаву дошли слухи, что банды, орудовавшие в Хевроне, верхом на лошадях, с обнаженным оружием направляются в сторону Петах-Тиквы. Так как мои родители с маленьким ребенком жили в уединенном месте, отец нанял лошадь с повозкой, посадил на повозку жену и ребенка, погрузил немногочисленные пожитки и перевез семью в комнату, которую он снял около большого рынка в Петах-Тикве, переждать, пока все успокоится.
Тем временем мама обнаружила, что она беременна, и из-за опасной ситуации в стране, когда они превратились в беженцев и не знали, что принесет им завтрашний день, попыталась от беременности избавиться. Но попытка оказалась безуспешной, и так родилась я 2 мая 1930 года, когда семья уже вернулась в Кфар-Ганим. А через два с половиной года родилась моя сестра Хая.
Мама продолжала возить воду из деревни для семьи с тремя крошками. Чтобы как-то облегчить ей жизнь, отец проложил по поверхности земли водопроводную трубу от деревни до нашего дома, и мама смогла дышать свободно. Но в начале тридцатых годов в стране был промышленный кризис, отец порой с трудом находил работу даже на один день, и не было у него денег платить за воду, которую брали из деревни. Что сделали «добрые люди» из деревенского совета? Они не сжалились над несчастной женщиной, которая, надрываясь, таскала баки с водой из деревни, и перекрыли трубу.
Когда мы начали болеть детскими болезнями или простуживались, мама лечила нас сама различными средствами, такими, как повязка с горчицей или оливковым маслом, и другими «бабушкиными лекарствами», которые были в её распоряжении. Вблизи не было не только врача, но и мало-мальски знающего человека, с которым бы можно было посоветоваться.
Однажды с нами случилось вот что: брат Авраам заболел воспалением легких. Никто тогда и не мечтал об антибиотиках и других «чудо-лекарствах». Ребенок горел в лихорадке и был в тяжелом состоянии. Отец ещё не вернулся с работы; не было телефона. Мама дома одна с тремя детьми… И вдруг она увидела рабочего, который возвращался с пардесов в деревню. Она бросилась к нему и со слезами на глазах попросила сделать доброе дело и прислать врача из мошавы; он обещал помочь. Но произошло чудо, брат выздоровел сам, а врач не пришел и по сей день.
В мошаве, фотография из архивов
Мы с братом ходили в детский сад воспитательницы Зивы, который был расположен рядом с бейт-кнесетом. Бейт-кнесет был важным учреждением в деревне, и не только для людей религиозных, и было так благодаря раву Цвике, которого все очень уважали и старались придти в субботу и в праздники, чтобы услышать его комментарии к святым текстам.
В 1935 году в Страну приехала папина племянница Сарра со своим мужем Менахемом-Лейбом сразу после того, как поженились. Они поселились у нас в Кфар-Ганим. Её родители и сестры остались в местечке в Трансильвании. Две младшие сестры приехали сюда только после войны. Все остальные, включая маленького внука Йоселе, которого назвали так в честь дедушки Каца, погибли в Катастрофе.
Молодая пара жила с нами, пока в 1936 году снова не начались беспорядки, и снова стал вопрос: как защитит себя семья, живущая в изоляции? Как известно, британские власти строго запрещали иметь оружие. И тогда люди из совета деревни нашли идеальное решение: они снабдили папу спортивным свистком и сказали ему: «Если на вас нападут бандиты, свисти в свисток», – но отцу так и не было понятно, кто придет на помощь. И вот, во второй раз нанял он лошадь и повозку, усадил на нее троих детей, забросил вещи, а мама и племянница бежали следом за повозкой, и таким образом мы сбежали в Петах-Тикву.
Из детского сада Зивы мы перешли в детский сад Блюмы, а потом пошли в школу. Ещё будучи в Кфар-Ганим мы, как и все дети, любили играть в песке, благо он был в изобилии. Было у нас и дополнительное преимущество: при входе в наш двор песок был всегда мокрым из-за постоянной утечки воды, которая понемногу вытекала из соединения между двумя трубами, идущими на пардесы. Мы играли там, как играют дети на берегу моря, строили такие дворцы из песка, какие только позволяло наше воображение. Иногда к нашей игре присоединялись арабские дети. И, когда переехали в мошаву, мы продолжали страдать от воспаления глаз; кроме того мама обнаружила в моей голове вшей.
Она отвела меня к парикмахеру, и я вышла от него с бритой и сияющей как шар головой. Мама одела мне на голову закрытую шапку и отвела в детский сад к воспитательнице Блюме. И в саду всем на радость дети стащили с меня шапку и смеялись надо мной до упаду. Однако, в конце концов, у меня на голове выросли волосы, и этот кризис я благополучно пережила.
Финансовое положение вообще в стране было тяжелым, не было работы, у нас не было денег платить за аренду квартиры, и за те четыре года, что мы в этот раз прожили в мошаве, нам пришлось три раза переезжать. Вначале жили у «болгар» напротив детского сада, потом снимали квартиру у Малки, маминой подруги по Иерусалиму. Дом её стоял на улице Вольфсон, на дороге, ведущей в арабскую деревню Пажия. Из-за кровавых событий, происходивших в то время, сказала маме воспитательница Блюма, что не разрешает мне одной возвращаться домой, и следует маме приводить меня в сад и забирать оттуда. Я была девочкой очень самостоятельной и не нуждалась в том, чтобы кто-то приводил меня и забирал. Но, я помню, что это обстоятельство очень льстило мне; я обнаружила себя в центре внимания и, благодаря этому, чувствовала себя очень хорошо. Наконец-то и обо мне заботятся и приходят за мной в детский сад, как приходят за избалованными детьми!
Маме тоже было хорошо в то время: наконец-то она очутилась среди людей и поблизости от её подруги Малки. В то время радио в доме было у единиц, а у Малки в семье оно было. Малка часто приглашала маму к себе домой, и они сидели вместе и слушали радиопередачи и музыку. Я помню первую радиопередачу на иврите, воодушевление было всеобщим. Актриса Ханна Ровина[6] читала что-то, а две женщины сидели и слушали с волнением и влажными от слез глазами. И мама сказала мне: «Слушай, слушай, как следует, как говорят на иврите по радио. Это большой день для нас». И было у меня праздничное настроение, будто близок тот день, когда будет у нас независимое еврейское государство.
Папа начал готовить меня к школе, он купил учебник, который назывался «Мири и Мэри», и каждый вечер после возвращения с работы читал мне. Так мы сидели вместе, и он учил меня читать и писать. Я была буквально околдована этой книгой, её цветными розово-голубыми картинками и, когда пошла в первый класс, читала и писала довольно хорошо, а также немного знала счет, которому тоже учил меня папа.
В Германии Гитлер уже был у власти, нацисты преследовали евреев и отправляли в концентрационные в лагеря на пытки и уничтожение. Отдельные еврейские семьи ещё успели уехать оттуда, если им повезло. По улице проходили молодые парни и девушки, выходцы из Германии, с огромными рюкзаками за плечами, в которых находилось, по-видимому, всё их имущество. В доме, где мы жили, тоже поселилась семья из Германии. Их дочь по имени Вильгельмина стала моей подругой. Мать её была немкой и христианкой, а отец евреем. Он с большим трудом выбрался из нацистского концентрационного лагеря, куда был заключен за то, что, будучи евреем, женился на немке-христианке и тем самым осквернил арийскую расу.
Ещё одна семья, которая приехала из Германии, жила в нашем квартале и даже смогла вывезти оттуда контейнер c оборудованием маленькой фабрики, которая им там принадлежала, и сырьем. Их единственный сын, сейчас профессор, был в школе отличником. Но, когда он окончил народную школу, родители не разрешили ему продолжать учебу в гимназии и приказали заняться делами на фабрике. Он категорически отказался и с большим трудом сумел убедить родителей позволить ему получить образование.
Перед моим поступлением в школу мы еще раз в поисках более дешевой квартиры переехали на улицу Моаливер и там уже жили до 1939 года. Сама улица была очень узкой, без тротуаров; время от времени проезжала поливальная машина и поливала водой землю по обеим сторонам улицы, чтобы осадить пыль. И мы, дети, бежали следом, чтобы поймать струю воды и намокнуть.
По вечерам проходили по улице Моаливер коровы, возвращаясь с пастбища, среди них стадо старого пастуха Авраама Шапиро. Каждая корова точно знала, какому хозяину она принадлежит, в какой двор ей свернуть и в какой хлев войти.
Длинные вереницы верблюдов под звон колокольчиков также проходили по улице. Помню, как однажды я раздразнила одного верблюда, стукнув его палкой, и он меня лягнул.
У нас было много хороших друзей в округе; после шести лет одиночества в Кфар-Ганим мы легко влились в детскую среду. Брат Авраам был озорником и водился с ребятами из компании «черных беретов», с которыми учился в школе. После занятий они обычно отправлялись лазить по деревьям или собирать «сабрес» (съедобные плоды кактусов).
Летом, во время длинных летних каникул, когда не было занятий, в школе размещались солдаты британской армии. Как-то нам стало известно, что прибыли солдаты-шотландцы, и после обеда они сидят вдоль длинного забора, выходящего на улицу Мохливер, в традиционных юбках, задрав ноги на забор. Это известие мгновенно облетело всех детей мошавы, и все, как один, собрались у школьного забора, чтобы удостовериться раз и навсегда, носят ли шотландцы под юбками трусы…
И на этой улице мы подружились с детьми, которые приехали из Германии со своими семьями. В нашем дворе жили брат и сестра, Марианна, которая была нашей лучшей подружкой, и Роди. Позднее, во время Войны за Независимость Роди служил в военной полиции на юге страны. Я тоже служила в армии в этом районе, и помню, как он «при исполнении» ездил на мотоцикле и наводил ужас на всех солдат.
И еще жили в нашем дворе два докторских сына Рафаэль и Арье (Ральф и Роберт), которые тоже были нашими приятелями; с ними мы играли в замечательные игрушки, которые они привезли из Германии. Была у них заводная кукла по прозвищу «Би-Ба-Бо». Достаточно было дотронуться до нее пальцем, и это приводило в движение целый кукольный театр. У них в доме было радио, и мы могли слушать передачи «Молодежного уголка», которые велись на иврите.
Я вспоминаю Йону, он снимал комнату в нашем дворе. Он приехал из Германии или Австрии в последнюю минуту перед тем, как стало слишком поздно. Он был одним из немногих смельчаком и счастливцев, которым это удалось. Приехал он один, без семьи; я предполагаю, что семья его погибла.
Он был молодым парнем, крепким, всегда в хорошем настроении. Когда он возвращался с работы, издалека было слышно его пение. Как правило, он пел арии из опер. Я предполагаю, что родители дали ему хорошее воспитание и образование и, конечно, музыкальное образование. Но в Петах-Тикве он работал на рытье колодцев для воды. И вот однажды пришли и сообщили нам, что его засыпало землей, которая обвалилась во время работы, и, когда в конце концов его удалось вытащить, он был уже без признаков жизни.
У отца и матери было много забот; экономическое положение оставалось тяжелым. Я помню, как отец возвращался домой вечерами печальный после того, как повел долгие часы у ворот конторы по трудоустройству и ушел ни с чем. Он также проводил время на бирже труда, куда приходили работодатели нанимать рабочих, но работы не было. И, если это происходило с моим отцом, который раньше был «затребованным» работником, то можно себе представить, какого было положение других рабочих. И, вместе с тем, мы никогда не считали себя бедными и несчастными и не думали, что мы в тяжелом положении, хотя часто, когда у отца не было работы, ели хлеб с апельсином зимой и хлеб с арбузом летом. И никогда не мелькнула у нас мысль попросить помощи у социальной службы, как это делали другие.
«Деликатесами», которые мы ели, были хлеб, намазанный оливковым маслом с луковицей или чесноком, салат из овощей и простокваша. Это меню я люблю и сегодня.
Как-то мама взяла нас с собой навестить тетю Бейлу, сестру ее отца, которая жила в конце улицы Пинскер в Петах-Тикве, поблизости от своего сына раби Шломо Гиршфельда и его семьи. В то время тете было более девяноста лет, но у нее была ясная голова, и она была умница, как никто. Мы, дети, обнаружили у нее полку со стеклянными баночками и с тех пор повадились часто ходить к ней. Рассядемся вокруг нее, она спрашивает нас о нашем здоровье, о здоровье родителей и т.д. и т. п., и мы вежливо отвечаем на вопросы и с нетерпением ждем того мгновения, когда поднимется дрожащая рука к баночкам, которые стоят у неё на полке.
Мама тосковала по своему родному Иерусалиму, по его прозрачному воздуху, которого ей очень не хватало; она не любила жару и влажность нашей местности. На счастье жизнь её скрашивало теплое отношение родных. Она постоянно навещала дядю рава Менахема-Иегуду Штампфера, брата её отца, сидела с ним и видела в нем образ отца, которого очень любила. Она говорила, что он очень похож на отца и внешне, и своим добрым сердцем.
Ривка Бен-Арье, которая была замечательным человеком, была маме другом по духу и опорой. Ривка была настоящей праведницей, всегда протягивала руку помощи нуждающемуся, будь то старик или больной, и не ради награды, а по велению души. Она была такой проворной и энергичной, каких трудно найти. В случаях, когда кто-то из семьи заболевал, мама звала на помощь Ривку, ангела-спасителя, и она приходила с маленьким чемоданчиком, в котором были «банкес», ставила их на спину, и больной выздоравливал. Я почти не помню, чтобы в наш дом приходил врач, в этом уже не было необходимости. Ривка заботилась о нас, детях, когда мама уезжала в Иерусалим навестить бабушку Дину. Она забирала нас к себе домой и утром одной рукой готовила завтрак и бутерброды детям в школу, а в другой руке держала молитвенник и читала утреннею молитву. Или хлопотала по дому и одновременно задавала детям вопросы по таблице умножения. Ривка старалась передать нам одежду, которая стала мала её детям и которую они тоже получили от более взрослых или от родственников из Америки. Совсем как в стихотворении поэтессы Кадии Молодовской «Превращения пальто»:
«Вырос Фроим из пальто,
Но не пропадет ничто.
Лейзерке его надел,
И еще год пролетел.
Очень он его берег,
Но не двигаться не мог.
Поднял руки он едва
Оторвались рукава.
Хватит плакать и рыдать,
Надо просто нитку взять,
Быстро рукава пришить –
Будет Бейлочке служить!»
Мы все росли в одежде, переходящей от одного ребенка, который вырос, к другому, младшему. Ривка Бен-Арье перелицовывала его наизнанку, которая ещё не истерлась, и, основательно вытряхнутое, оно продолжало служить дальше.
Мы чувствовали себя очень близкими семейству Бен-Арье, их дочь Эстерке была нашей лучшей подругой, и в нашем сердце мы храним самые приятные и незабываемые воспоминания о годах нашего детства в Петах-Тикве.
Тем временем в Европе подули ветры войны. В Стране участились демонстрации против «Белой книги»,[7] за свободную иммиграцию в Страну.
Но число евреев, которые получили сертификаты, успели уехать и спасти свои жизни перед лицом надвигавшейся Катастрофы, было мизерным.
Миллионы евреев оказались в западне в Польше и других странах Европы, а евреи в Стране были беспомощны и бессильны против Британской державы, которая интересовалась только нефтяными скважинами, которые были в руках арабских государств, и предпочла их человеческим жизням и крови миллионов евреев, мужчин, женщин и маленьких детей, отданных на уничтожение.
Я помню демонстрацию организации «Бейтар»,[8] которая спускалась по улице Мохливер мимо нашего дома. Во главе шествовал бейтарник со свернутым в руке бело-голубым флагом, и они скандировали: «А-ли-я хоф-шит! Ме-ди-на ив-рит! – Свободная иммиграция! Еврейское государство!» А по бокам стояли британские солдаты с дубинками и ждали того мгновения, когда демонстранты развернут флаг, что запрещалось британскими законами, и поднимут его вверх. И, когда это случится, и флаг развернется и завеет на ветру, британские солдаты нападут на демонстрантов и начнут колотить их дубинками. Но бейтарники были готовы к стычке и давали сдачу.
Я вспоминаю также членов организации «Хагана»,[9] как они, возвращаясь с учения, проходят мимо нашего дома и поют походную песню, первые две строки которой я помню по сей день:
«Будем сильными и смелыми, и буря нас не сломит,
Никакие испытания огонь наш не погасят…»
В соседнем дворе по улице Мохливер стоял большой трехэтажный дом; в нем обитали многочисленные жильцы. И весь этот дом принадлежал одной очень богатой даме, которая сама жила в Варшаве. Время от времени она приезжала в Страну получить арендную плату. Летними вечерами, бывало, сидим мы на улице, на бетонном заборе, чтобы отдышаться от дневного зноя, и взрослые, как водится, беседуют о политическом положении в стране и в мире, которое становилось все более и более тревожным. Я вспоминаю, как папа сидел рядом с этой богатой дамой и говорил, что она не должна возвращаться в Польшу накануне войны, что преследование евреев набирает силу в Германии, и никто не знает, что ещё может случиться. Она засмеялась и сказала ему: «Видишь этот дом здесь? Знай, что в Польше у меня целые улицы таких домов». Она вернулась в Польшу, и больше никто о ней ничего не слышал. Скорее всего, она погибла в Катастрофе вместе с миллионами других евреев.
Британские власти в Стране закрыли морские порты и границы перед евреями, успевшими выбраться из Европы и пытавшимися в отчаянии добраться до Страны на кораблях нелегальных иммигрантов. Это были старые посудины, переполненные людьми, которые там находились в нечеловеческих условиях. Часть из них сумела перехитрить британскую береговую охрану и с помощью людей из «Хаганы» или морского подразделения «Пальмаха»[10] высадиться на берег и раствориться среди местного еврейского населения. Но многие были схвачены и заключены в специальные лагеря, они были освобождены только после того, как получили сертификаты за счет уменьшения числа иммигрантов в будущем.
Подпольные организации Эцель и Лехи[11] вели против британцев настоящую войну, и британские власти искали их, объявляли комендантский час, ходили из дома в дом, чтобы устроить им западню. Жители сидели, запертые в домах, порой несколько дней подряд, и только в послеобеденное время объявляли перерыв на два часа, чтобы люди могли запастись продуктами.
Вторая мировая война разразилась в сентябре 1939 года. По радио мы слушали пробирающую до глубины души речь короля Георга VI, который с болью в сердце говорил о трагедии, которая произойдет.
Правительство Британии тогда возглавлял Чемберлен, который встречался с Гитлером и был введен в заблуждение его якобы миролюбивой политикой; это достигло своей вершины в Мюнхенском договоре, в котором Чемберлен согласился, чтобы нацисты захватили Судеты в Чехословакии. Когда Чемберлен убедился, что он был обманут Гитлером, он вынужден был уйти в отставку и десятого мая 1940 года освободил свое место Уинстону Черчиллю, который стал премьер-министром Британии. Черчилль показал себя, как самый значительный лидер поколения во все годы войны, когда решалась судьба человечества.
13 мая 1940 года Черчилль произнес историческую речь в парламенте, в ней он предупредил народ Британии о войне, которая принесет кровопролитие, изнурительный труд, пот и слезы. И, действительно, немцы стали бомбить Британию с самолетов; особенно страдал Лондон от тяжелых «блиц»-налетов, которые продолжались с 7 сентября по 3 ноября 1940 года. Весь мир, и мы в том числе, были изумлены стойкостью жителей Лондона, но, вместе с этим, ни за что не могли принять жестокую политику министерства колоний и министерства иностранных дел Британии в отношении несчастных еврейских беженцев, которым не давали пристать к безопасному берегу в Стране Израиля. Процесс нелегальной иммиграции на хлипких судах был цепью непрерывных страданий и катастроф. Так на отдаленный остров Маурициус (Маврикий) в Индийском океане британцы отправили 1387 нелегальных еврейских эмигрантов, которые были захвачены в Греции по пути в Страну. Там они находились с 1940 по 1945 год. 25 ноября 1940 года у берегов Хайфы затонул корабль «Патрия» со 1800 эмигрантами, в основном выходцами из Германии, которых предполагалось переправить на остров Маурициус. Только 216 из пассажиров удалось спастись, и только после этого им разрешили остаться в Стране.
Дома отец начал говорить о возвращении в Кфар-Ганим, ему удалось уговорить маму, и жаль, что удалось. И одним летним утром он привез лошадь с повозкой, мы погрузили на нее домашний скарб и вернулись домой в деревню.
В Кфар-Ганим ничего не изменилось. Теперь мы все должны были таскать воду в баках; хранили воду в «танже», большой керамической бочке, которая стояла в углу веранды. Над ней на перилах папа построил проветриваемый шкаф с решетчатыми стенками и дверцами, это устройство заменяло нам ящик со льдом, т.к. не стоило тащить лед издалека, он наверняка бы растаял при летнем зное. В этот шкаф мама ставила готовую еду и овощи. Мама была вынуждена ходить, утопая в песках, каждый день в центр деревни, чтобы купить свежие продукты. Когда мы были свободны от занятий, то помогали маме, выполняя работу посыльных в магазин или таская баки с водой. Маленький магазин находился рядом с бейт-кнесетом и принадлежал паре пожилых людей, выходцев из Бессарабии, господину Пайчеру и его жене Пайчерке. Они были одними из хороших людей, которые встретились маме на пути, особенно хорошо мы вспоминаем о Пайчерке. Жизнь у мамы была нелегкая, и Пайчерка делала всё возможное, чтобы ей помочь.
Когда я пишу: «Мама бежала в деревню за помощью, когда кто-то болел или был ужален пчелой», – это значит, что бежала она не в больницу, а домой к Пайчерке. Та знала, как помочь, а, главное, как успокоить, и все вставало на свои места.
Наше материальное положение, как и у многих семей, улучшилось. Пищевая промышленность работала на полную мощность в связи с войной, чтобы обеспечить продуктами британских солдат, которые находились на Ближнем Востоке, механики занимались ремонтом транспорта, текстильная промышленность тоже работала на армию. Многие работали в британских военных лагерях на строительстве жилых помещений, на строительстве дорог и ещё на многих объектах, связанных с войной. Папа получил постоянную работу на фабрике по производству химических удобрений; она была в ведомстве британского правительства, и у нас появилось чувство материальной стабильности, хотя папа работал там очень тяжело.
Но, в отношении качества нашей жизни, ничего не изменилось. Не было ни мощеной дороги, ни электричества, ни водопровода. Мы жили «на выселках» и боялись по вечерам возвращаться домой, тем более, что вокруг была кромешная тьма, чтобы вражеские самолеты не обнаружили гражданскую цель. А мы, дети, обязаны были вечером вернуться домой. Из-за всего этого мы были отрезаны от жизни деревни, да и от общественной жизни поселка.
Образы, которые встают из глубины нашего детства, это длинные караваны верблюдов, покачивавшихся под монотонный звон колокольчиков и ведомые бедуином, еврейские рабочие, которые идут на работу на пардесы с мотыгами на плече и корзинкой еды в руке, пастухи и стада скота на пастбищах, а по ночам – вой шакалов, которые упоминаются в поэзии и в литературе в романтическом свете, но у нас они бродили вокруг дома, и мы дрожали, заслышав эти звуки. И ещё по ночам члены подполья, которое действовало против британских властей, тайно проскальзывали мимо нашего дома в сторону «Бейкот», упаковочной на пардесах, где они тренировались в стрельбе.
Но самые яркие образы, которые остались в нашей памяти, это йеменские женщины, которые бродили, собирая хворост, чтобы печь питы, и возвращались с огромными вязанками на голове, идущие с прямыми спинами, грациозной походкой танцовщиц. Но все это были прохожие, а потом мы оставались в одиночестве.
В воскресенье 7 декабря 1941 года совершенно неожиданно атаковали японцы американский военный флот в порту Пирл Харбор на Гавайях. Они бомбили и пикировали авианосцы, в том числе и на расстоянии сотен километров от берега, в нападении принимали участие и подводные лодки. И это в то время, когда представители Японии поехали в Вашингтон, чтобы сгладить трения между двумя государствами. Потери в Пирл Харбор были громадными, военно-морские силы США в Тихом океане были полностью парализованы. В результате этого в войне, которая началась внезапно между Японией и Соединенными Штатами, сумели японцы захватить инициативу в большей части Тихого океана и Юго-Восточной Азии. Черчилль сказал, что хоть и неприятно это говорить, но он доволен создавшимся положением, и тот факт, что США вступили во вторую мировую войну, приведет к более быстрому её окончанию.
Продуктовое снабжение было ограниченным из-за войны. Только апельсины были в избытке. Не было возможности вывозить их; Европа была в войне, и Соединённые Штаты присоединились к союзникам. Плавание по морю было опасно для торговых судов из-за подводных мин или бомбежки с самолетов врага. На фабриках «Асис» и «Ехин» делали соки и консервы для воюющей армии, коровы в стойлах жевали апельсины, и мы также получили свою порцию витаминов в изобилии. И все равно оставался никому не нужный большой урожай цитрусовых, и хозяева плантаций вынуждены были рыть ямы и закапывать урожай в землю, я это видела своими глазами.
Папа принес домой большую железную печку, которая топилась дровами, чтобы варить пищу и печь; трудно было раздобыть мазут; электричества, как известно у нас не было. И тогда у нас возникла гениальная идея: при сборе цитрусовых обычно не старались снять все плоды до одного, часть оставалась под деревьями, и они лежали там долго, пока полностью не высыхали. Мы собирали сухие апельсины в мешки и использовали их как замечательное горючее, ведь кожура апельсина содержит высокий процент алкоголя. Когда ими топили печь, апельсины «взрывались» и распространяли замечательный запах по всему дому.
Несмотря на опасность плавания по морю, еврейские беженцы продолжали свои попытки спастись от немецкого ада. В феврале 1942 корабль нелегальных иммигрантов «Струма» и на нем 769 евреев – беженцев из Румынии – пристал к турецкому берегу. Им не разрешили сойти на берег, несмотря на то, что корабль был развалиной, готовой пойти ко дну. Беженцев отправили обратно, потому что, будучи евреями, они никому не были нужны, и не было у них права бросить якорь в безопасном месте. Британия ожесточилась и отказалась дать им возможность въезда в Страну, американцы также игнорировали эту трагедию. И в конце концов, корабль затонул вместе с несчастными беженцами; спасся только один человек.
В 1942 году, когда война была в самом разгаре, немецкие войска под командованием фельдмаршала Роммеля, у которого было прозвище Лис Пустыни, воевали в Шаарей-эль-Альмин, и было опасение, что они захватят Египет. Оттуда они могли бы с легкостью вторгнуться в нашу Страну и захватить её. И тогда жуткая Катастрофа произойдет и у нас. Опасность была велика. Я до сих пор помню выражение ужаса в глазах взрослых. Однажды я отправилась проводить подругу в мошаву; был будний день по календарю, но половина поселения не работала, объявили день поста и молитв. Двери бейт-кнесета были распахнуты, и я видела многих людей, входивших туда, чтобы молиться и просить Б-га, чтобы защитил евреев в Стране Израиля и спас нас от вторжения немцев и уничтожения.
Пардес, который отец посадил, высох, потому что не было никакого смысла вкладывать в него силы и деньги, и на нашей земле посадил папа ячмень в доле с арабом по имени Айяд. Айяд прибыл в наши края с двумя женами, с зятем Хасаном, у которого тоже было две жены, и кучей детей, один из которых по имени Раад был нашим приятелем. Семья была родом из Египта, из Эль-Ариша.
Там они голодали и проделали библейский путь в обратном направлении,[12] чтобы добыть пропитание в Израиле. Они поселились вначале около города Аза (Газа – перев.), однако это не улучшило их положения, и тогда они перебрались севернее и поселились в одной из арабских деревень вблизи Петах-Тиквы, и в течение нескольких лет выращивали на земле ячмень теми же средствами, как это делал праотец Авраам в своё время. Сначала поставили палатку из черных полотнищ, чтобы было у семьи место, где укрыться. Затем вспахали землю плугом, для чего впрягли в него верблюда. После пахоты сеяли: брали полную пригоршню зерен и, размахивая рукой, бросали их в новые борозды. Когда подошло время жатвы, собралась вся семья, включая женщин и маленьких детей, с помощью серпов сжали ячмень, затем собрали снопы на круглое гумно, впрягли верблюда в молотилку, и началась молотьба. Верблюд все время ходил по кругу и молотил ячмень. Когда отделились зерна от колосьев, веяли ячмень вилами на ветру; более тяжелые зерна падали вниз, а солома с мякиной падали по сторонам. В конце работы зерна пересыпали в мешки и делили пополам.
Как уже сказано, шла война, продуктов было мало, даже хлеба, и этот ячмень очень выручал. Время от времени папа отвозил порцию ячменя на мельницу, молол его и приносил домой темную муку грубого помола. Мама пекла из неё очень вкусные питы.
Как-то пришел к нам из своей деревни Айяд, «компаньон» отца, сияющий от радости, и с наглостью рассказал нам, что немецкие самолеты, пролетая над арабской деревней, сбросили листовки, и в них сообщили, что немецкая армия скоро захватит нашу страну; и они просят арабов помочь в уничтожении евреев, живущих здесь, а в награду отдадут арабам еврейские дома и земли. И, добавил Айяд, для себя он уже выбрал наш дом и нашу землю. Я стояла поблизости и прислушивалась к разговору. Мне тогда было двенадцать лет, я была блондинкой, белокожей. И тут Айяд указал на меня и сказал: «А эту девочку я возьму себе третьей женой…» Б-р-р-р… Даже сегодня я с дрожью вспоминаю это.
Молитвы евреев Израиля открыли врата небесные, и они смогли выжить.
Гитлер впал в безумную и убийственную мегаломанию и был охвачен желанием захватить Советский Союз. Он нарушил пакт Молотова-Риббентропа, который был заключен между Германией и Советским Союзом, и открыл второй фронт. Но у него не хватило ума открыть учебник истории и извлечь урок из поражения Наполеона в его войне белой зимой против Матушки России. А пока что в результате перевода большей части немецких сил в Россию британцы успешно наступали на фельдмаршала Роммеля, который командовал Африканским корпусом в 1943 году и вынудили его отступить из Египта и Ливии. Мы были спасены.
До отца доходили разные слухи о тяжелом положении его семьи. Я помню, как мы сели за стол во время праздничного седера, и папа начал читать «Агаду».[13] Внезапно он замолчал и не мог продолжать дальше. Глаза его наполнились слезами, и он сказал нам, что его родные уже не сидят вокруг праздничного стола, он это знает, и, возможно, их уже нет в живых.
Как и мама, папа рассказывал нам о своей семье и жизни в местечке в Трансильвании. По вечерам, вернувшись домой с работы, он умывался, менял одежду, ужинал и садился отдыхать на широкой деревянной скамье на веранде. Я подсаживалась к нему и просила: «Папа, расскажи мне ещё истории о загранице». И он рассказывал о своей семье, о приключениях, которые произошли с ним, когда отец послал его отыскать пропавшую на горном пастбище корову. В поисках он дошел до границы снегов и так устал, что сел отдохнуть на снег. Проходил мимо один человек и сказал ему: «Будь осторожен, мальчик! Когда усталый человек садиться на снег и засыпает, он может замерзнуть до смерти и никогда не встать с этого места».
Он рассказывал о Первой мировой войне, о своей солдатской службе и обо всех тяготах войны, о своем решении покинуть страну изгнания и приехать как халуц в Страну Израиля. Он так и не понимал и часто говорил об этом, почему еврейская община в горах выбрала именно его осуществить это, перенести все невзгоды: тяжелый и изнурительный труд, голод и опасности, и никогда не отчаиваться, и, таким образом, спасти свою душу, в то время как большинство членов его семьи остались сидеть на месте и погибли в Катастрофе. Эта тема его очень беспокоила. Он надеялся только на младшего брата Меира, который тоже покинул родительский дом и уехал в Аргентину, где по инициативе барона Гирша[14] организовывались еврейские земледельческие и скотоводческие поселения. Поэтому до сих пор живут там «гуачос» (скотоводы) – евреи, потомки этих эмигрантов. Позднее Меир переехал в Уругвай в Монтевидео, основал там семью, а двое из его внуков сейчас живут в Израиле.
Мама также рассказывала о своем родном городе Иерусалиме, и пока хлопотала по хозяйству, и по вечерам, когда мы все собирались вокруг керосиновой лампы. Иногда стекло лампы лопалось от перегрева, и темнота охватывала комнату, пока мама меняла стекло.
Мама также имела обыкновение читать нам рассказы, в основном Шолом-Алейхема на языке оригинала, на идиш, и это производило незабываемое впечатление. У мамы был талант не только выразительно читать, но и изображать персонажей в лицах, и мы катались по полу от смеха.
Папа привык вставать спозаранку в четыре часа утра, чтобы успеть наложить тфилин и произнести утреннюю молитву. Тем временем мама разжигала примус или дровяную печку, когда не было керосина, и варила для него овсяную кашу и кофе, собирала для него корзинку с едой на обед, и он уходил пешком, даже если место работы его было в Кфар-Сабе или других отдаленных местах.
В том месте, где работал папа на пардесе, в Кфар-Сабе, смотрителем был один родственник. В те времена это была должность значительная. Он прекрасно знал, кто папа, но, проезжая утром на работу мимо папы в своей коляске, он никогда не останавливался; было ниже его достоинства остановиться и подвезти рабочего.
Во время сбора апельсинов производительность труда у отца была гигантской.
Он заполнял корзины в три раза быстрее любого рабочего на пардесах, был очень спор в работе, и те, кто заворачивал и упаковывал апельсины, не успевали справляться с тем количеством, которое папа отправлял на упаковку. Из-за высокого роста отцу трудно было работать с мотыгой под деревом, вырывать траву или поливать. Поэтому подобной работы он избегал.
Он очень любил землю Израиля, хотя жизнь у него была нелегкая, любил Петах-Тикву от всей души до последних своих дней.
По субботам он также вставал спозаранку, и мы просыпались от звука его голоса, когда он с выражением читал недельную главу Торы. После этого шел в бейт-кнесет молиться. Когда он возвращался, мама подавала на стол чолнт,[15] и после трапезы он выходил погулять в поля, чтобы переварить чолнт, и мы его сопровождали. Когда мы уставали, он растягивался навзничь на земле и рекомендовал нам сделать то же самое и объяснял, что земное притяжение тянет наружу, на себя всю усталость, какая накапливается в теле человека. И действительно, это работало, и после короткого отдыха мы вставали с новыми силами и возвращались домой.
У нас было принято, вплоть до глубокой старости отца, называть его «дитя природы». Он никогда не ел консервы из банок, колбасу и т.п., он любил простую и здоровую пищу, никогда не курил, и единственной женщиной в его жизни была мама.
Когда он заболел гриппом, и мама заставила его пойти к врачу, то спустя некоторое время, переворачивая матрас, она обнаружила «залежи» лекарства, которое он получил от врача. Он выздоровел и без лекарств. Возможно, его образ жизни продлил его дни до девяноста восьми лет и двух месяцев.
У папы были «золотые руки», он всё делал сам. Когда мы отдавали обувь в починку, чтобы прибить подметку, как было принято в то время, сапожники из-за нехватки кожи использовали разные заменители. Эти заменители не выдерживали такого интенсивного использования, как ходьба в школу три километра туда и три километра обратно. Однажды папа принес домой железные колодки трех размеров, что-то, безусловно, профессиональное, как у настоящего сапожника, и резиновую шину от автомобиля, разрезал её на полоски, собрал все рваные башмаки, сел перед колодками и с помощью гвоздиков и маленького молоточка прибил новые подошвы и каблуки, которые вырезал из шины, сделал всё это идеально, хотя раньше ничем подобным не занимался.
Спустя многие годы, уже будучи старым, папа проводил всё больше и больше времени в бейт-кнесете даже днем, не только в часы молитвы. Он видел множество священных книг в разорванных переплетах. Одну из них он взял домой, разобрал её «по частям», посмотрел, как она переплетена. Потом он принес рваные книги из бейт-кнесета домой, уселся за стол и переплел одну книгу за другой. Вместо бумаги для обложки он использовал прочную материю, и книги уже больше не рвались. Его друзья и просто молящиеся просили, чтобы он переплел их книги. В моем доме он переплел много книг, когда приходил к нам в гости, и я пользуюсь ими до сих пор. Его даже пригласили в одну ешиву в Петах-Тикве, предоставили в его распоряжение комнату, и он переплел им все разорванные книги. Но этим он занимался в старости, а пока вернемся в Кфар-Ганим.
По вечерам с наступлением темноты папа старался быть дома с семьей, чтобы охранять нас. Но иногда совет деревни приглашал жителей на собрание. И тогда папа вынужден был участвовать в них. Я помню темную зимнюю ночь, папа ушел на собрание, и мы закрылись дома, заперли дверь, опустили жалюзи. Вдруг собака начала лаять без перерыва. Мама открыла дверь и вышла на веранду, и я следом за ней, и вдруг мы увидели, как по дорожке, ведущей к дому, идет огромная человеческая фигура и приближается к нам в темноте.
Мама повысила голос и спросила: «Кто это?». Он не ответил. Она спросила по-арабски: «Мин хаада?» – Нет ответа. Мама спрашивала на идиш, по-английски, может быть пьяный британский солдат, который ошибся дорогой? Нет ответа, и фигура приближается, он уже у дерева сладкого лимона в нескольких метрах от дома, он продолжает идти дальше и вот-вот поднимется по ступеням, откроет легкую дверь веранды, которая не заперта … Нам было так страшно, и тогда мама закричала: «Хаим!» Это был самый ближний к нам житель деревни, который жил со своей семьёй в бараке, и мама вовсе не была уверена, что он услышит её крик на таком расстоянии. Однако гигант, услышав мамин крик, остановился, медленно повернулся, вышел из нашего двора и исчез.
Назавтра утром мы вышли на дорожку, по которой он шел, чтобы найти его следы. Обнаружили следы огромных ног, босых, несмотря на то, что была зима;
По-видимому, это был араб, только они ходили босыми и зимой. Обычно арабы не бродили по ночам в наших местах, они торопились до наступления темноты вернуться в свои деревни с караваном верблюдов или погоняя своих ослов.
Была у нас черная коза, которую мы доили, и пили её молоко, сладкое и вкусное. Мы выросли на козьем молоке и не знали вкуса коровьего. На ночь мама запирала козу в кухне, чтобы ее не украли, и утром, когда ее выпускали наружу, наша собака с ликованием мчалась ей навстречу после ночной разлуки, виляя хвостиком. Ведь, разумеется, ночью собака была на улице и сторожила.
Однажды к нам приехал Хасан верхом на осле, который служил ему вместо ног; ноги у него были изуродованы с детства, он не мог ни стоять на них, ни ходить. Однако при этом он был отпетым вором. Хасан тащил за собой черную козу на веревке. Он позвал маму и сказал, что эта коза – единственная в своем роде и дает молока намного больше, чем наша коза. Он попросил маму принести посуду для дойки, быстро, как черт, соскочил со спины осла к вымени козы, присел и подоил ее в нашем присутствии. И, действительно, подойник наполнился доверху, мама согласилась на обмен и отдала ему нашу козу, которую мы так любили и были к ней привязаны, как к хорошей подруге.
Новая коза не была такой симпатичной, как наша. Она ела всякую дрянь во дворе, апельсиновые корки, бумагу и просто мусор; по-видимому, так приучил её Хасан. Нос её был мокрый и липкий, и из него все время текли сопли. Но то, что произошло в следующие дни, совершенно вывело из себя отца, который во время совершения самой сделки был на работе. Когда козу доили, надой был мизерный. Папа был очень сердит на Хасана за то, что он надул маму, и понял, что перед тем, как привести козу к нам, тот её несколько дней не доил, чтобы собрать в её вымени скудное молоко.
Папа подкараулил Хасана, когда тот проезжал на осле мимо нашего дома, позвал его, стащил с осла на землю и громким голосом пригрозил, что покуда он не вернет нашу козу, он будет лежать на земле, хоть целый месяц. Хасан, дрожа от страха, пообещал, что он немедленно возвратит нашу козу. Тогда папа подхватил Хасана под локти, посадил обратно на осла, и тот поехал своей дорогой. И, действительно, на следующей день Хасан появился с нашей козой, вернул её, забрал свою, и мы были счастливы.
Кроме наших домашних животных, поле возле нашего дома изобиловало живыми тварями. Не проходило недели, чтобы папа не устраивал смертельный бой с ядовитой змеей. Мы ходили по полям и собирали шкуру, которую сбрасывают змеи, учились оберегаться и не ходить по земле с густой растительностью или среди кустов, а только по дорожке, где можно было видеть то место, куда ступала нога. И как раз маму, которая так боялась змей и скорпионов, укусил желтый скорпион. Она засунула руку в корзинку с едой, вместо того, чтобы вытряхнуть её и проверить содержимое. Я помню её разрывающуюся от острых болей и плачущую. Довелось ей перенести и это в довершении к тяжелой жизни, которая была ее уделом в Кфар-Ганим.
Мы причиняли маме много беспокойства, бегали босиком, и она умоляла нас обуться из-за змей и скорпионов, которые ползали вокруг. Особенно она волновалась из-за брата Авраама, который во время летних каникул подрабатывал на пардесах на поливе, и, конечно, все время ходил босой, а пардесы кишели змеями, которых притягивала вода. С интересом наблюдали мы за полетом золотого жука и за маршрутами муравьев от места, где они запасали пищу на зиму до их жилищ. Наблюдали за ящерками и агамами, которые сновали по наружным стенам дома. У брата Авраама был маленький и очень острый перочинный ножик, с его помощью он препарировал пресмыкающихся, особенно ящериц; уж очень ему было интересно посмотреть, что у них внутри. Мама была уверена, что в будущем он станет врачом-хирургом.
Когда мы ходили в деревню, бывало, перебегала перед нами с одного пардеса на другой вонючка, оставляя за собой шлейф отвратительного запаха. А по вечерам перед наступлением темноты мы видели приближавшихся шакалов: стоят на краю поля и наблюдают за нами, по-видимому, почуяли запах пищи, варившейся дома, и к ним присоединяются ещё и ещё товарищи из стаи, и потом они нарушают тишину ночи своим воем.
Когда урожай был уже собран, в полях появлялся немой пастух со своими коровами. Он был человеком очень славным и всегда припасал для нас новости и истории, которые рассказывал на своем немом языке. Он был своим человеком в нашем доме, и мама всегда подавала ему еду и питье.
Во время перелета птиц навещали наши места многочисленные гости. Неожиданно прилетела стая аистов, они долго стояли на одной ноге в полном спокойствии и не двигались с места. Еще прилетали трясогузки и белые цапли в начале зимы, удоды с хохолком и еще многие виды пернатых, но больше всего я любила наблюдать за красавцами-щеглами с их изумительной окраской, как они прыгают по кустам сухого и колючего терновника.
Голуби также устроили себе жилище под крышей веранды, и мы с большим интересом наблюдали, как они откладывают и высиживают яйца, как родители кормят свое потомство, и уже последнюю стадию, когда родители учат своих птенцов летать, пока не наступит день и они покинут свое гнездо.
И, конечно, незабываемо было появление детенышей у наших домашних животных, в этом процессе мы участвовали с большим волнением. Коза приносила каждый год троих козлят, и собака давала потомство до десяти щенят каждый раз. И у мамы была проблема, как их раздать и избавиться от этого растущего населения.
Военно-воздушные силы Его Величества также посылали своих представителей на наше поле. Это были самолеты с двойными крыльями, которые базировались на аэродроме в Кфар-Сабе, прилетали тренироваться в наш район, и их маршрут как раз проходил над нами.
В то время, когда мы сбежали в Петах-Тикву во время событий 1936 года, киббуц Гиват-Шломо взял в аренду землю, граничащую с нашим участком, чтобы поставить там ульи. Пока дом пустовал, это никому не мешало, но, когда мы вернулись домой, начались проблемы. Весной во время цветения цитрусовых пчелы собирали нектар с их цветов и делали мед. Позднее, в период сбора меда из ульев, пчелы становились особенно сердиты на пасечников за то, что те вмешиваются в их жизнь, а расплачивались за это мы. Мы были искусны с головы до ног, просто не могли выйти из дома наружу.
Пасечники снабдили нас густыми сетками и особой одеждой, через которую не проникали пчелы. В ней мы выглядели как астронавты, которые летят на Луну. Однако попробуй надеть такую броню во время хамсинов весной и в начале лета. Однажды несколько пчел ужалили сестру Хаю, которая была тогда маленькой девочкой, в голову. Она вся распухла, и ей было очень плохо. Мама схватила её на руки и побежала в деревню просить помощи. И, как всегда, Пайчерка, хозяйка маленького магазинчика, положила примочки с холодной водой на все укусы, напоила девочку водой, и всё кончилось благополучно. Тогда папа решил больше не молчать, и началась война между папой и пасечником кибуцником, которого звали Халамиш (в переводе «кремень» – перев.), имя, которое трудно забыть. И на войне, как на войне; папа был тяжелым артиллерийским орудием, а Халамиш, наоборот, чутким парнем, который понимал, что несправедливо портить жизнь семье с детьми. Кибуц ещё пытался добывать мед за счет наших страданий и отказывался удовлетворить требования папы, но, в конце концов, вынужден был перенести пасеку в другое место.
В жаркие летние дни, когда заботы о воде совсем сводили маму с ума, она собирала узел с детской одеждой и уезжала с нами в Иерусалим к бабушке Дине. Вначале надо было ехать в Тель-Авив, а там уже пересаживались в автобус, идущий в Иерусалим, маленький, совсем непохожий на современные.
Поездка в Иерусалим через Кастель занимает три-четыре часа, и, когда начинаются крутые повороты, нас начинает тошнить, и мама достает ломтики лимона, которые заготовила заранее, и дает мне и сестре и сама берет, потому что ей тоже нехорошо. И, можно сказать, что это помогает, и, в конце концов, мы благополучно прибываем в Иерусалим. В Иерусалиме, когда прозрачный воздух ударяет нам в ноздри, мы уже чувствуем себя намного лучше, и мама дышит глубоко, и получает удовольствие от каждого вдоха. Она нанимает черную крытую повозку с кожаными дверцами, мы залезаем внутрь и едем к бабушке Дине.
Бабушка жила в районе Батей Унгарим напротив Меа Шаарим вместе с тетей Ривкой и ее сыном, который был солдатом британской армии и служил в Египте, в Западной (Ливийской) пустыне. Квартал был населен крайне религиозными людьми, и сегодня ничего там не изменилось. Живут там люди, принадлежащие к «Натурей карта».[16] И там мы присоединялись к детскому обществу. Во дворе был колодец, вокруг которого играли дети, и в центре сидел Мойше-Толстяк (Мойше Даар Губер). И дети мешают ему. Они говорят с ним и между собой на идиш, и мы не выглядим умственно отсталыми среди них, мы хорошо владеем этим языком, и никто из детей ничего не скажет по секрету за нашей спиной.
Мы были свидетелями субботней «войны», которую вел раби Амрам Балуй вместе со своими «казаками», когда в субботу по ошибке заехала машина в Меа Шаарим. К тому же это оказалась британская военная машина, но они с этим не посчитались и начали забрасывать машину камнями. Однако британцы тоже не молчали: я видела, как британские солдаты хватали этих «камнеметателей», затаскивали внутрь машины и везли, оскверняя субботу, в полицию.
Мне очень нравилось спускаться вместе с мамой на рынок Меа Шаарим, чтобы купить свежий хлеб, селедку и всякие маринады. Покупали там «ледер» (курагу – перев.) и черный «ликрес» (лакричный корень – перев) в виде палочек или спиралек. Мама брала нас в гости к родственникам, мы подружились с их детьми и получали большое удовольствие от жизни в Иерусалиме. Мама же себя чувствовала в Иерусалиме, как рыба в воде и каждый раз откладывала свой отъезд, пока в конце недели не появлялся папа и не начинал жаловаться, как плохо ему одному, и некому приготовить еду, и некому позаботиться о нем.
В Иерусалиме утром в субботу папа шел в бейт-кнесет хасидов в Батей Унгарим на молитву. Когда пригласили «коэним»[17] подняться на возвышение и благословить общину, и папа подошел к чаше омыть руки, стоял там хасид в меховой шапке с бархатным верхом, который омывал водой руки «коэним». Папа был одет, как обычно одевался в бейт-кнесет в Кфар-Ганим: рубашка, брюки и шапка-каскетка на голове. Хасид посмотрел на него с презрением и сказал: «Скажи-ка, парень, сколько лет ты не делал этого?» Что можно было ответить хасиду? Что папа встает в четыре часа утра, пока еще темно на дворе, чтобы успеть наложить тфилин до того, как пешком отправиться на работу, тогда как хасид и его товарищи «праведники» спят глубоким сном и пробудятся для работы у Всевышнего, когда солнце будет сиять над всей вселенной?
У мамы тоже как то был инцидент с «колель»[18] в Батей Унгарим. Когда мама присоединилась к всеобщему профсоюзу, ей понадобилось заполнить анкету и указать точную дату рождения. Сведения эти затерялись с тех пор, как она родилась в Еврейском квартале Старого города. Ей потребовались свидетельства из «колель» квартала, где она росла, о ее возрасте. По этому поводу мама приехала из Петах-Тиквы; она прекрасно знала, как надо одеться в соответствии к требованиям этого квартала. Одета она была очень скромно: в платье с длинным рукавом, с покрытой головой, однако этого для них было недостаточно; вдруг видит эта скромная и благочестивая женщина, как один из хасидов плюет в её сторону и кричит: «Шлюха, шлюха!»…
Когда папа приезжал в Иерусалим на Пост 9 Ава,[19] он ходил на траурную молитву к Стене Плача. Я ходила с ним, и по дороге мы заходили навестить тетю Хаю, жену моего дяди Шломо Штампфера, которая жила в Старом городе.
Стена Плача тогда выходила в узкий переулок. Там сидели евреи и еврейки, одетые в дерюгу, посыпали головы пеплом и оплакивали разрушение Храма, сновали британские солдаты и следили, чтобы молитва проходила спокойно.
Стена Плача казалась мне тогда огромной. Этому есть два объяснения: одно – это то, что я тогда была маленькой девочкой, второе – чтобы увидеть всю стену, мне надо было тогда поднять голову, ведь смотрела я на неё с близкого расстояния, из маленького переулка, и мне казалось, что она достигает неба.
И когда, спустя многие годы, после того, как Стена Плача была освобождена во время Шестидневной войны, и я приехала туда после окончания войны, я нашла широкую площадь вместо узкого переулка, и Стена оказалась намного меньше, чем я её помнила с детства.
В конце концов, мама смирялась, просто у неё не было выбора, и мы возвращались в Кфар-Ганим. И маме ничего не оставалось, как находить утешение в воспоминаниях об отпуске, который прошел так быстро.
Мои подруги и подруги сестры Хаи жили в мошаве и очень редко приходили к нам в деревню. Большую часть времени мы были предоставлены сами себе и по своему усмотрению организовывали свою жизнь и свои игры. Я помню, каждый вечер, когда мы отправлялись в кровать, мы пели в два голоса песни, которые разучивали в школе, пели очень красиво. У нас обеих был музыкальный слух, мама и папа обычно слушали нас; и так мы пели, пока не засыпали.
Мы были в возрасте, когда играют в игрушки, но никогда нам не покупали ни игрушки, ни игры, и нам в голову не приходило такое потребовать. И, как все девочки, мы ужасно хотели играть в куклы. Что же делать? Нашли дома кусочки материи и пуговицы, достали из ящика мамины принадлежности для шитья, и сшили себе замечательных кукол. Шили им платья, делали мебель для кукольного домика, который сами построили и, благодаря этому, открыли в себе способности к шитью и вообще к рукоделию, чем мы и занимаемся для своего удовольствия и по сегодняшний день. Играли мы и в замечательную игру с пуговицами, которые нашли дома. А, когда наши запасы пуговиц кончились, домашние обнаружили, что не могут застегнуть одежду, которую хотят надеть.
Когда папа возвращался с работы и заставал нас за этими играми, он очень сердился и говорил, что мы зря теряем время на эти глупости, лучше бы сидели и читали книги, из которых можно чему-нибудь научиться. Папа очень любил читать и читал все книги, какие ему удавалось достать. По-видимому, в детской психологии папа понимал немного, в книгах он понимал гораздо больше; он проверял каждую книгу, которую я приносила из библиотеки, и советовал брать книги по истории. Благодаря нему я заинтересовалась историей, стала лучше учиться в школе, и, по-видимому, основа того, что я делаю сейчас, записываю историю моей семьи, лежит в чтении этих книг. Я помню целую серию книг под названием «История дома Давида», о крестовых походах, о том, что происходило с отрядами крестоносцев по дороге на Иерусалим, об инквизиции в Испании, об ужасных пытках и о маранах, которые перешли в другую веру только для вида, а сами продолжали тайно выполнять еврейские заповеди. И еще книги о татарах и казаках в России, такие как «В огне и золоте», и еще другие о погромах, названия которых я забыла, но содержание помню; столько слез я пролила над ними, что подушка моя была мокрой. Мне кажется, я не вижу этих книг в руках моих детей и их сверстников, а жаль. По-видимому, страшная катастрофа, которая произошла с евреями во время Второй мировой войны, превзошла погромы и муки, которые испытал еврейский народ до неё.
Папа помогал мне в изучении священной истории, книг Торы и Пророков, даже учил меня по моей инициативе читать Талмуд. Все это делалось спокойно, потому девочка не обязана учить Тору, разве только она в этом заинтересована, тогда на здоровье, почему бы не учить её? И он получал большое удовольствие от того, что учил меня.
Однако, когда дело касалось изучения Танаха[20] моим братом Авраамом, история была другая, потому что еврейский мальчик обязан изучать святые книги, и нет из этого исключения. И здесь отец использовал систему обучения своего отца рава Иоселя Каца, строгого учителя из местечка.
Давление на брата было большое. В бейт-кнесете он обязан был сидеть рядом с папой и молиться, в то время как его сверстники играли на улице. И после бар-мицвы заставил его папа подняться на возвышение для благословления коэним. И брат стеснялся своих сверстников, никто из которых не стоял на возвышение и не благословлял народ.
Папа был коэном, его настоящая фамилия была Кац, как и фамилия его отца, но, т.к. он родился в местечке своего дедушки со стороны матери, записал его дед, по-видимому, по ошибке, в списке жителей на фамилию Штерн, так оно и осталось.
Не раз сердился папа на Авраама во время учебы за то, что тот смотрит на улицу в то время, как книга лежит перед ним, и применяя на деле выражение «Берегущий розгу ненавидит сына своего, а любящий поучает его сызмальства» (книга Притчей – перев.), давал ему затрещину. К чести Авраама он не затаил на отца обиду за это рукоприкладство и во времена папиной глубокой старости преданно о нем заботился. Считалось характерным, что потомкам коэнов трудно владеть своими чувствами, они быстро вспыхивали; у папы тоже была эта черта, но, когда гнев проходил, он сожалел о своей вспышке и был готов начать новую страницу.
В соответствии с папиным происхождением, как коэна, полагалось ему в бейт-кнесете почетное место у восточной стены. Но он избегал этого почета и выбрал себе место как раз у западной стены, на границе с женской половиной. И женщины, как водится, по рассказам папы, даже во время молитвы обсуждают модное платье такой-то или шикарную шляпу такой-то, и начинается шушуканье на эту тему, и тогда слышен «гром» на весь бейт-кнесет: «Женщины, тихо!». И женщины застывают на месте от страха, утыкаются в молитвенники, и папа с высоты своего роста, возвышаясь над перегородкой, следит за порядком.
Слабым местом для меня была школа. Перед поступлением в первый класс я умела хорошо читать, писать и считать, потому что папа подготовил меня к учебе. Можно сказать, я начала с правой ноги. Так продолжалось, пока мы жили в мошаве, недалеко от школы. Однако, после возвращения в деревню в 1939 году моя успеваемость явно ухудшилась. Расстояние от дома до школы было слишком большим для маленьких детей, почти три километра. По немощеной дороге мы с трудом брели, утопая в песке. Поэтому опоздания в школу стали постоянными. А после обеда надо было вернуться домой по влажной и удушающей жаре, и негде было укрыться по дороге. Возвращалась я домой с сильной головной болью. Или зимой надо было идти в школу под проливным дождем и вернуться промокшими до нитки. Никаких автобусных подвозок тогда не существовало. Я помню, что ноги очень болели от ходьбы по песку, и мама растирали их мне спиртом. Когда добирались из школы домой, мы уже были без сил. И мама была без сил от такой жизни. Короче, я и опаздывала на уроки, и не учила их, как надо. Классный руководитель не поинтересовался, что происходит с ученицей, а просто невзлюбил меня. Школьному руководству до всего этого никакого дела не было. В то время среди учителей было принято рукоприкладство по отношению к буйным ученикам. Я не была буйной, наоборот была смирной и воспитанной, просто условия жизни довели меня до плохой успеваемости. Но, в каждом случае, когда ему что-то не нравилось, на меня опускалась его рука. Не раз я возвращалась домой со следами его пальцев на щеках. Мама это видела, но так как это было принято в то время, никто не жаловался. Хуже этих побоев было прозвище, которое прилепилось ко мне – «тряпка», ко мне и еще группе девочек, которым тоже не везло по той или иной причине, и мы были группой «тряпок» в отличие от другой группы более удачливых, родители которых были к тому же уважаемыми и влиятельными людьми в мошаве, или просто состоятельными. Моя мама могла бы без труда облегчить мое положение, если бы на одном из родительских собраний шепнула бы учителю, что её дочь тоже принадлежит к семье, очень уважаемой в мошаве. Я уверена, что он бы изменил свое отношение ко мне и обнаружил бы способности, которые тем временем пропадали. Но мама, в основном, из-за подавленности и неуверенности в себе, забивалась в угол, опускала голову и не смела использовать семейные связи. А я так нуждалась в поддержке. В нынешнее время это кажется просто неправдоподобным. И теперь, когда люди впадают в ностальгию по прошлому, я с ними совершенно не согласна. Мы прошли длинную дорогу в том, что касается равенства и самосознания, и невозможно представить себе, чтобы ученика отправили домой, потому что его отец не внес плату за обучение. Может быть, у его отца не было работы не по его вине? Такое отношение я испытала не раз за время учебы в школе.
В моем классе была ученица по имени Айяла. Сегодня её бы назвали одаренной. Она была лучшей ученицей в классе, знала десятки глав из Танаха наизусть. И когда после летних каникул класс вернулся в первый день в школу, и стали проверять, кто пришел и кто нет, отсутствие Айялы было очень заметным. Её все любили. Когда ученицы спросили того самого учителя, где Айяла, он равнодушно ответил, что она не будет продолжать учебу, ей надо помогать родителям по хозяйству. Ей было всего лет девять или десять, и я была поражена и подумала про себя, почему он говорит об этом так спокойно, почему не перевернул свет, чтобы помочь ей?
Я никогда не выполняла в школе поручений, которые возвысили бы меня в глазах других. Например, это было время Второй мировой войны, и каждый класс должен был репетировать, как организованно спускаться в убежище во время воздушной тревоги. По этому случаю учитель спросил, кто хочет быть ведущей и ответственной за класс? Я была спортивной и храброй, потому что на своей шкуре научилась в деревне, как справляться со страхом, и чувствовала, что эта роль мне подходит. Чтобы обратить на себя внимание, я тянула руку изо всех сил, но это не помогло. Это поручение дали другой ученице, которая, на мой взгляд, для этой роли совершенно не годилась. И из духа противоречия я вообще не спускалась в убежище во время тревоги, и учитель даже не поинтересовался, почему я оставалась сидеть в классе во время тревоги. Мне было тогда десять лет, а обида жива в моем сердце до сегодняшнего дня.
Однако, я была отомщена, хотя произошло это спустя восемь лет.
Конечно, родители забрали меня из этой школы и перевели в другую, и там я успевала хорошо и в учебе, и в общественной жизни. И, когда по всем школам Петах-Тиквы был объявлен конкурс на лучшее сочинение по поручению ложи вольных каменщиков,[21] мое сочинение было послано на конкурс, и я получила за него приз.
Когда разразилась война за независимость, возникла необходимость захватить арабские деревни к востоку от Петах-Тиквы. В этих боях участвовало подразделение Александрони, и мой брат был одним из бойцов. Он был ранен в бою. Папа вместе с другими взрослыми из Петах-Тиквы принимал участие в пограничной охране (мишмар-ха-гвуль, подразделение полиции – перев.). Я в то время была перед призывом в армию, а пока что выходила в район боев для оказания медицинской помощи как член организации Красного Маген Давида. Однажды командир позиции увидел в бинокль несколько арабов на ничьей земле между нашей позицией и арабской деревней, и необходимо было удалить их оттуда. Я была рядом с командиром, готовая выйти с рюкзаком первой помощи, и вместе мы собирали людей для этой операции. Мы подошли к человеку, лежащему на земле, и, несмотря на его нежелание, командир приказал ему встать и идти с нами. Тот весь дрожал, отказывался встать, говорил, что устал и не может пойти на задание. Когда командир обвинил его в невыполнении приказа, этот человек сел, и я увидела перед собой того самого школьного учителя. Он узнал меня, хотя прошло восемь лет с тех пор, как я была его ученицей, и спросил: «Что ты здесь делаешь, Шошана?» В том смысле, что могла делать в таком месте одна из тех, кто в его глазах стоил не больше чесночной шелухи? Или подумал, что я могу повлиять на командира, и тот освободит его от задания? Так, увидев его самого униженным, я была отомщена за те пощечины и унижения, которые перенесла от него когда-то.
Шошана во время службы в армии
Освободительное движение, которое началось еще до Второй мировой войны, приняло значительные размеры с момента публикации «Белой книги» в 1939 году, а в дни войны превратилось в героическую борьбу еврейского народа в Стране и за ее пределами против британского правительства, которое военными и политическими силами пыталось прекратить поток нелегальной иммиграции.
Чтобы не быть схваченными, борцы сопротивления ушли в подполье. Иногда британским властям удавалось схватить подпольщиков, заключить их в тюрьму или выслать в Африку, в Кению и Эритрею. И, к великому сожалению, были случаи, когда подпольщиков казнили, что повергало еврейское население в шок и глубокий траур.
В нашем районе подпольщики тренировались на пардесах, в помещении для упаковки апельсинов «Бейкот». В праздничный вечер (в данном случае это был канун праздника Шавуот), когда папа и брат Авраам вернулись из бейт-кнесета, и все сели за праздничным столом, мы услышали звуки выстрелов снаружи. Папа, недолго думая, побежал в сторону песков, в направлении фигур, которые стояли с пистолетами наготове. Брат Авраам побежал за ним, оба в белых рубашках, выделявшихся в темноте – такая четкая цель для стрелявших.
Стояли там один еврейский и два британских полицейских; они подошли к отцу и направили на него пистолеты. Папа поднял руки, чтобы они увидели, что он не вооружен, и они спросили: «Что ты здесь делаешь?» Папа ответил: «Что значит, что я здесь делаю? Я здесь живу в моем доме. Услышал стрельбу и вышел наружу проверить, кто стреляет около моего дома». И тогда спросил его еврейский полицейский: «Может быть, ты видел, что кто-нибудь бежал в глубину пардесов?» Ответил папа: «Я сидел за праздничным столом и ничего не видел». В конце концов, они оставили его в покое и приказали вернуться домой, а сами продолжили погоню. Брат Авраам сказал, что, если бы там не было еврейского полицейского, британцы бы пристрелили их, не моргнув глазом.
Оказалось, что в доме Хаима прятался его родственник, член Военной Национальной Организации (Эцель). Когда он увидел приближавшихся британцев, он выпрыгнул в окно и исчез на пардесах. Те бросились преследовать его и стали стрелять в его сторону. И, когда папа и брат Авраам появились внезапно в темноте в разгар этой погони, они невольно задержали полицейских, а тем временем подпольщик выиграл время и скрылся.
В этот период занятия в школе стали проводиться по сменам; занимались и в послеобеденные часы. Говорили, что во время войны невозможно строить новые школы из-за нехватки строительных материалов. По той же причине не строили жильё, что привело впоследствии к тяжелой жилищной проблеме.
Когда я училась во вторую смену и вечером возвращалась домой, темнота наступала, когда я еще была в конце деревни, и я боялась пройти темный участок пути между пардесами до дома. Что делать? Звала изо всех сил нашу верную собаку, она быстро прибегала ко мне, и вместе с ней я уже не боялась идти в темноте. Усатый сторож Светицкий, который разъезжал верхом на лошади с винтовкой за плечами, решил по-другому: он выстрелил в нашу ни в чем не повинную, хорошую и верную собаку, которая нас так стерегла. И по вечерам, когда я возвращалась со второй смены, я боялась без нее пройти этот темный участок пути между пардесами. Как-то, когда я стояла там в темноте одинокая и дрожащая от страха, передо мной прошла группа молодых людей в направлении нашего дома. Среди них я увидела Беньямина, его мама была подругой моей мамы. Я знала, что он член Эцель, и сразу поняла, что они направляются на пардесы тренироваться в стрельбе. Я пошла следом за ними; они знали, что я живу в уединенном доме и иду за ними в поисках защиты. Так я делала и в дальнейшем.
Однажды около нашего дома остановилось несколько военных автомобилей с солдатами-британцами, которых мы называли «каланиёт» (анемоны – из-за красных беретов – перев.), и снаряжением. Мы с мамой вышли посмотреть на происходящее, мама заговорила с ними, но их поведение не соответствовало сдержанному поведению британских солдат, они вели себя свободно и фамильярно, как наши приятели. Когда они уехали, мама сказала, что, по ее мнению, это не британские солдаты, а люди освободительного подполья.
Время не стояло на месте, мы уже были в возрасте шестнадцати, тринадцати с половиной и одиннадцати лет, а в этом возрасте дети уже не готовы сидеть дома; они хотят пойти в кино, встретиться с друзьями, а мы от всего этого были отрезаны. Мы начали жаловаться родителям и требовать переехать в мошаву. Это было и горячим желанием мамы, но шла война, жилья в стране не хватало, и дело стояло на месте. Папа был очень привязан к земле и не решался оторваться от неё. Иногда я думаю и удивляюсь, как мог человек религиозный, соблюдающий традиции растить двух дочерей, оставляя их часто одних, в таком пустынном месте, когда вокруг бродили недруги.
Мама понимала, что мы должны знать всё о жизни и о возможных опасностях, и рассказала нам во всех подробностях, как нам вести себя в каждой ситуации, и, главное, быть осторожными и не попадаться в западню.
Дорога от арабских деревень к мошаве проходила по нашей земле. Если часы молитвы приходились на то время, когда арабы шли по дороге, они останавливались, расстилали свою «авию» (накидку – перев.) на земле: стоят, затем становятся на колени, падают ниц и молятся. Бывало они приближались к нашему дому и просили «мойя» (воды), «ховаз» (хлеба) или «сурмия» (обувь).
Однажды мы с младшей сестрой остались одни дома, нам было примерно одиннадцать и тринадцать лет, убирали на веранде. Вдруг к нам подошел молодой араб, лет семнадцати, стал на ступенях перед входом в дом и попросил стакан воды. Так как, как я уже говорила, это было у нас принято, я дала ему напиться, стояла рядом и ждала, чтобы он вернул мне чашку. Но, когда он кончил пить, и я потянулась за чашкой, он схватил меня за руку и начал приговаривать: «Хабибати, хабибати…» («Миленькая моя…» – перев.). Я сразу поняла его намерения, выдернула руку, втолкнула сестру в дом, чтобы её обезопасить, и заперла за ней дверь. Затем подняла над головой веник, который был у меня в руках, и стала прогонять его, но он не сдвинулся с места, а опустил свою руку и, указывая на низ живота, сказал: «Но сначала это…» Я угрожала ему веником, крича и ругаясь по-арабски: «Давай, убирайся отсюда, чтобы рухнул твой дом, будь проклят твой отец…» И, действительно, он спустился со ступенек и побежал. Оказывается, на мое счастье, в это время появился немой пастух Толер со стадом коров, и, видя, что происходит, он поднял свою палку и побежал к нашему дому, и тогда этот араб убежал.
Когда вечером папа вернулся с работы, и мы рассказали ему, что произошло, он сразу обратился к нашему сторожу Светицкому, и тот пообещал отыскать этого молодого араба и предупредить.
По-видимому, после этого случая созрело у папы решение продать дом и землю и перебраться, наконец, в Петах-Тикву.
В то время в Натании открыли завод по обработке алмазов. Владельцам этого производства удалось вывести свое имущество из Бельгии до того, как пришли немцы, и перевезти в Израиль, в Натанию. Туда стало прибывать множество народу: рабочие и работницы, ученики, специалисты в различных областях хозяйства, чтобы приобрести новую профессию и работу, которая предполагала высокие заработки. Британские военные лагеря были неподалеку. Город процветал, жизнь кипела, открылись новые кафе и рестораны. Из кафе на берегу моря, где сидели британские солдаты и тянули пиво, слышалась танцевальная музыка; особенно мне нравился чудесный голос английской певицы Веры Лин. Любимица солдат всех фронтов пела песни полные печали, и они будили воспоминания о родине, о близких и надежду на то, что придет день, окончится война, и вместе с ней кончится и весь этот ужас.
Брат Авраам однажды поднялся, оставил ешиву, в которой учился и уехал в Натанию. Его приняли на работу на завод, и он начал учиться новой специальности по обработке алмазов. Вначале, в течение короткого времени он жил в доме нашего дяди Меира Штампфера, пока не овладел профессией и не начал зарабатывать, а потом снял комнату в доме напротив у Пейковича (брата Игаля Алона). Позднее к нему присоединился Яков Глобман, который тоже стал огранщиком алмазов, и они стали снимать эту комнату вдвоем. С тех пор к ним часто приходили ночевать подпольщики до или после «операции», но всё было совершенно тайно. Члены подполья пытались привлечь брата Авраама, который был совсем молодым парнем, в ряды Эцеля; они бы преуспели, но Яков Глобман был на страже и попросил их прекратить. Мне кажется, что Яков вел себя так, думая о нашей маме, иначе бы он не смел посмотреть ей в глаза. Он был старше Авраама и не хотел брать на себя ответственность в этом деле. Сам он, по рассказу его брата Хананьи, был членом Хаганы. Их двоюродный брат Иегуда Глобман, член Эцель, в это время находился в Африке, куда был выслан вместе с другими бойцами подполья.
В летние дни мы с сестрой Хаей и мамой ездили в Натанию на берег моря, а заодно и навестить дядю Меира. У них с женой Загавой было кафе на берегу моря, и британские солдаты, индусы, австралийцы и военнопленные итальянцы проводили время, сидя на террасе кафе и заказывая сигареты, сэндвичи и напитки. Пока хозяева были заняты своим делом, мы с их детьми плескались в море. Так я взяла себе за правило часто ездить в Натанию. Обычно мы с двоюродной сестрой Рути из Иерусалима останавливались у родственников, но, когда брат Авраам и его сосед отсутствовали в своем жилище, я, чтобы почувствовать вкус самостоятельной жизни, жила в их комнате. У них был отдельный вход со двора, и я там была совсем одна. А снаружи ночью по улице Смилянски слонялись пьяные британские солдаты, горланили песни во весь голос и иногда разбивали бутылку виски от избытка чувств. Я смертельно боялась, что вдруг они случайно обнаружат дверь, за которой я нахожусь. По-видимому, я все-таки была девочкой смелой…
Семья Штерн в Кфар Ганим в 1940 годы: мать Эстер, сын Авраам, дочери Шошана и Хая, отец Ицхак
Дом и земля в деревне, наконец, были проданы. Мировая война еще не закончилась, но уже виден был её конец. 6 июня 1944 года произошла большая высадка англичан и американцев в Нормандии. Мы временно сняли для жилья барак Хаима, который тем временем перебрался в Петах-Тикву. Было очень тесно: одна комната, кухня и закрытая веранда. Но, по крайней мере, брат Авраам не жил дома, т.к. устроился в Натании.
Однажды к нам домой пришли двое с папиной работы и сообщили маме, что папа легко ранен в руку. У мамы не было сомнений, что всей правды они не сказали, и она побежала в больницу Бейлинсон. Папа лежал внутри специального устройства для обожженных, и мама вначале его не узнала. Лицо его было распухшим от ожога и покрыто тёмной мазью, как и плечи и все руки до кончиков пальцев. Товарищи его рассказали, что папа работал в закрытом помещении, которое внезапно наполнилось газом. Этот газ вспыхнул, и он оказался как в западне. Врачи сказали, что, если бы папа не был таким здоровым, он бы не выдержал и не выжил. Он долго лежал в больнице. Мы, мама, сестра и я были одни в бараке и постоянно ходили к нему в больницу Бейлинсон.
Уже можно было встретить беженцев, уцелевших после Катастрофы. Они добрались до Страны с помощью бойцов, которые служили в Еврейской бригаде и отдали им свою форму и документы. Сами бойцы Еврейской бригады лично тоже участвовали в доставке евреев, уцелевших в Катастрофе к берегам Израиля.
Одним зимним вечером, когда уже опустилась темнота, и мы с мамой и сестрой заперлись в бараке, вдруг раздался стук. Мама открыла дверь. Перед нами стоял странный молодой парень. По его акценту мы поняли, что он из беженцев. Мама его пожалела, пригласила в комнату и налила стакан горячего чая. Он говорил очень спутано, долго рассказывал о том, что перенес в немецком концентрационном лагере, в этом аду. Пока говорил, не спускал с меня глаз.
Мама уже чувствовала себя неловко и забеспокоилась, и вдруг он сказал: «Я хочу жениться на твоей дочери». И мама ответила ему вежливо, щадя его, что дочь её ещё девочка пятнадцати лет, ей еще рано выходить замуж, она ещё учится в школе. «Но, – и она подозвала его к двери и указала в сторону деревни, – если ты пойдешь туда, то за деревней найдешь киббуц, и там ты встретишь много девушек, одна из которых, без сомнения, согласится выйти за тебя замуж…» Он послушался маминого совета и пошел в сторону кибуца. Несчастный этот парень, жизнь которого была вырвана с корнем, по-видимому, заблудился среди пардесов в поисках пристанища… И как мы в нашем положении могли ему помочь?..
Корабли, уже негодные к употреблению, были закуплены и арендованы, чтобы перевозить беженцев-евреев, скопившихся на берегах Италии, в Израиль. Беженцы тайно садились на корабль, но в море их подстерегали корабли Британии и перевозили в лагеря для перемещенных лиц на Кипр. Эти лагеря на Кипре были переполнены, и люди там содержались в ужасных условиях.
Папа выписался из больницы с лицом и руками, полными рубцов. Мама сшила ему из ткани два мешочка для защиты от мух и комаров, но, когда он двигался, они надувались и тянули вверх, причиняя изуродованным рукам страшную боль. Само собой он был не в состоянии выполнять никакую работу.
Так как завод, на котором работал папа, принадлежал правительству Британии, папу могли бы обеспечить пожизненной пенсией, но ни один профсоюзный деятель не приложил усилий, чтобы помочь отцу, и тот был в полном отчаянии. Когда мама поняла, что происходит, она взяла на себя труд добиться компенсации. Я никогда не забуду, как мама возвращалась после встреч с секретарем рабочего совета, который, как ни странно, был еще и членом «рабочей партии» и должен был бы поддерживать рабочих, с глазами полными слез. «Я не понимаю, – говорила она, – почему рабочий деятель, который по роду своей деятельности должен быть на стороне рабочего, кормильца семьи, получившего тяжелую производственную травму и, возможно больше не способного работать, почему он так заботится об интересах британского правительства? Почему так важно ему сэкономить на компенсации, и нет ему дела до рабочего и его семьи?» В конце концов, после мелочных споров папа получил одноразовое пособие, не особенно значительное, которое быстро разошлось на хозяйственные нужды.
С годами вернулась к отцу только малая часть той гигантской работоспособности, которая была у него прежде. Он старался снова включиться в работу, но это было уже не то, что прежде. Рубцы на руках и на пальцах очень ему мешали, у него не было постоянной работы, его часто увольняли, и мы, когда выросли, должны были материально поддерживать родителей, и делали это от всего сердца.
Ицхак и Эстер Штерн в старости
После высадки союзников на западе и побед Красной Армии на востоке все вместе сосредоточили свои усилия в направлении на Берлин, и уже можно было ясно увидеть конец войны. И, действительно, 8 мая 1945 года нацистская Германия безоговорочно капитулировала.
Весь мир праздновал победу над Германией, кроме еврейского народа; именно тогда стали видны истинные размеры Катастрофы, которая его постигла. Открылись ворота концентрационных лагерей для тех, кто уцелел, но многие из них даже не могли стоять на ногах, чтобы праздновать освобождение. Шесть миллионов, среди них полтора миллиона детей, погибли в Катастрофе от рук нацистов и их помощников.
Из папиной семьи мало кто уцелел. Две молоденькие девушки, дочери старшего брата Гирша. Один парень, сын папиной сестры Брейны. И одна молодая женщина по имени Хая, дочь Эти, любимой папиной сестры. После освобождения из Освенцима она успела родить ребенка, попала в лагерь на Кипре и приехала в Страну уже после образования государства Израиль.
Я никогда не забуду её встречу с моим отцом, её дядей. Я тогда поехала вместе с папой в лагерь для репатриантов в Кфар-Ата. Она упала папе на шею и рыдала: «Фатер, фатер…», а я стояла рядом и тоже плакала. Эта папина племянница, женщина религиозная, сейчас живет в Бней Браке, муж ее умер много лет назад, но они успели основать процветающую семью, и это, как говорит Хая, в отместку нацистам, которые убили в Освенциме её родителей, двух братьев и сестер. Самая младшая папина сестра Сарра вместе с мужем и тремя детьми погибли там же в Освенциме, и после них никого не осталось.
Японцы все еще продолжали ожесточенно воевать на Дальнем Востоке против союзников, они были очень суровыми воинами и наносили тяжелые потери Советской Армии и армии США, посылали пилотов-самоубийц (камикадзе) взорваться на военных кораблях и других военных объектах.
Чтобы окончить войну и прекратить продолжавшуюся бойню, было решено пойти на самую крайнюю меру, какая имелась в распоряжении человека для разрушения и уничтожения, и 6 августа 1945 года была сброшена первая атомная бомба на Хиросиму. Через три дня 9 августа 1945 года была сброшена вторая атомная бомба на город Нагасаки, и только тогда Япония капитулировала, и закончилась война.
Папа и мама купили дом с дунамом земли на улице Салант в Петах-Тикве. Дом был разделен на две квартиры, в каждой было две комнаты, кухня и открытая веранда, а туалет был общий. В доме в то время жили две семьи, но один из жильцов собирался переехать в другое место, так что у нас был шанс поселиться в собственном доме, купленном на свои деньги. Но радость наша была недолгой. Однажды, когда папа шел по городу со своими раздувающимися рукавами, его остановил представитель организации демобилизованных солдат, и сказал, что папа обязан предоставить одну из наших будущих комнат демобилизованному солдату, а, если папа откажется, они взломают квартиру и захватят её, закон на их стороне потому, что они воевали. А нам, целой семье, хватит второй комнаты. Когда я писала эти строки, я колебалась, стоит ли вообще рассказывать об этой истории, настолько она выглядит неправдоподобной. По-видимому, покинули Петах-Тикву богатые и влиятельные люди, которые могли бы позаботиться о демобилизованных солдатах. И остались только мы, «народная помощь», сами живущие в бараке вместе с отцом, страдающим от последствий ожогов.
Мама в тяжелые времена собирала все свои силы и выходила на борьбу.
Главой муниципалитета Петах-Тиквы в то время был Йосеф Сапир. Обычно он каждую неделю проезжал на осле мимо барака, где мы жили, на свой пардес. Завидев его, мама побежала ему навстречу, чтобы рассказать о нашей проблеме. В руках у нее был бачок с водой (в бараке тоже не было водопровода). Сидя на осле, он выслушал маму и обещал поговорить с представителями солдат. Но обещания сами по себе, а реальность сама по себе. «Претенденты» на комнату продолжали донимать отца. Что сделала мама? Появилась у мэра города дома на улице Пика ранним утром, когда он был еще в пижаме, и еще раз напомнила о нашей проблеме, об угрозах бойкота нашего дома. Были снова обещания, а потом снова приходили «захватчики» к нашему дому… И тогда решили папа и мама, что, если уж осуществлять захват, то это сделаем мы сами.
И после «временной» жизни в бараке, которая растянулась на два года отчасти из-за травмы отца, закончилась в нашей жизни глава «Кфар Ганим». Она продолжалась почти двадцать лет. Это место, которое должно было стать для нас маленьким райским садом, превратилось в западню, полную долгих страданий.
И вот, в последний раз папа нанял лошадь с повозкой, на нее сложили все наши пожитки и сбросили их во дворе дома номер 39 по улице Салант в Петах-Тикве.
Я, помню, была так счастлива, что, хотя мы пока расположились во дворе под сводом небесным, первым долгом побежала к подругам и сообщила, что наконец я живу в мошаве, и теперь я смогу проводить с ними вечера, и мне не надо будет спешить домой, пока не опустилась темнота.
История семьи моей матери в Иерусалиме
От переводчика
Тем, кто читал «Кфар-Ганим» Шошаны Цуриэль-Штерн, сейчас надо вернуться почти на столетие назад. Те, кто раньше не был знаком с ней и ее семьей, попадают сразу в Иерусалим середины XIX века. Так вы узнаете, что стало с теми, кто «взошел в Иерусалим» еще до всех волн репатриации, почти как герои Агнона.
Но начало этой истории было положено еще раньше, когда в 1827 году «Николай Первый подписал указ: “Повелеваем обратить евреев к отправлению рекрутской повинности в натуре”. В отличие от других их призывали в армию не с восемнадцати, а с двенадцати лет… В нарушение закона сдавали порой единственного ребенка, который вообще не подлежал призыву”. (Ф. Кандель «Очерки времен и событий», том второй). Ибо это был единственный путь «для вернейшего и успешнейшего истоку сего беспрестанно размножающегося народа» (там же).
Чтобы избежать этого «истоку», прибыл в Иерусалим из России прадед Шошаны Акива Найфельд в 1847 году. А позднее в семье матери Шошаны соединились две ветви евреев из Восточной Европы: одна – из Российской империи, вторая – из Австро-Венгерской. В своей документальной повести Шошана пишет, в основном, о первых двух поколениях семьи; и так сложилось, что жизнь одного протекала в Иерусалиме, обнесенном стенами шестнадцатого столетия, который мы сейчас называем Старым городом, тогда как второе поколение вышло за его стены и в прямом и в переносном смысле.
В старом городе
Совсем ребенком был Акива, дед моей матери, когда очутился в Иерусалиме.
Отец и мать отправили его из России одного с чужими людьми, а сами остались в Галуте. В те дни в царской России забирали еврейских мальчиков и отправляли в военные казармы, чтобы с раннего детства оторвать их от родного окружения и сделать из них солдат. Часть из них так и приживалась среди иноверцев.
Акива был у родителей единственным сыном. Они торговали лесом и были людьми зажиточными. Из опасения за судьбу своего сына решили они отправить его в Иерусалим, хотя и чувствовали, что, возможно, больше не увидят его в своей жизни и не прижмут к своей груди. Так оно и случилось.
Однажды дошел до них слух о том, что престарелые супруги по имени Либе и Йиде собираются уехать в Страну Сиона, чтобы, когда придет их час, быть похороненными в Святой земле Иерусалима. Были эти старики людьми одинокими, своих детей у них не было, поэтому они с радостью откликнулись на просьбу родителей Акивы взять их сына с собой в Страну Израиля.
Но как объяснить исчезновение своего сына? Как вывезти двенадцатилетнего мальчика без родителей за пределы Российской империи, когда действует царский указ о воинской повинности?
Тут они узнали, что в одной бедной семье умер от болезни единственный сын. Они нашли пути к этой семье и за денежное вознаграждение получили свидетельство о смерти, которое переделали на имя своего сына Акивы. А чтобы перевезти мальчика через границу, соорудили они большой короб и поставили его в крестьянскую повозку. Акиву спрятали в короб и сверху забросали сеном. Соседям старики сказали, что едут в Румынию, к Черному морю, а, когда приехали туда, взяли его на корабль как внука, заплатив за это, как следует, и так привезли его в Иерусалим в году 1847. И было ему тогда двенадцать лет.
В те времена Иерусалим был обнесен стеной. Евреи жили в мирном соседстве с арабами под деспотичной властью турок. Ни один человек не осмеливался выйти за городские стены, за которыми простирались пустынные пространства, из-за страха перед грабителями. Евреи Иерусалима существовали на пожертвования, присылаемые их общинами из Галута (называлось это «халука», т.е. «распределение» – перев.); были они очень религиозны и образ жизни вели традиционный. Новые кварталы вне стен старого города были построены позднее.
Сохранялась тесная связь между родителями Акивы в России и Иерусалимом. Поддерживали они стариков деньгами, чтобы те могли растить их сына и сами ни в чем не нуждались. Акива сначала учился в хедере, как все мальчики из еврейских семей, а в свободное время нравилось ему бродить по закоулкам Старого города и впитывать в себя все, что было вокруг. Ему нравилось разглядывать торговцев и их товары в лавках, лоточников, феллахов, которые привозили из деревень плоды своих трудов на нагруженных доверху ослах и верблюдах. Но более всего тянуло его к золотых дел мастеру; часами простаивал он у его мастерской и смотрел, как кусочек металла превращается в произведение искусства или восхитительное украшение.
Так проходили дни и годы, мальчик рос, он полюбил своих приемных родителей, но не забывал отца и мать, которые остались в России.
До сих пор кажется удивительной в глазах моих готовность его родителей вручить своего сына в чужие руки на многие годы. По-видимому, это было предпочтительнее, чем отдать его в солдаты в царской России и тем самым потерять его навсегда.
Возможно, что живя в Галуте своим трудом, отец и мать его не были готовы существовать в Иерусалиме на деньги от пожертвований. Конечно, переписка и щедрая денежная поддержка, которую они оказывали сыну и его приемным родителям, и сознание, что он находится в надежных руках, как-то скрашивали им горечь разлуки.
Когда мальчик подрос, приемные родители поняли, что пришла пора позаботиться о его будущем и научить делу, которое его прокормит, ведь они стары и не вечны, как и отец и мать в России. Позвали его и спросили, что он желает делать в своей жизни, когда станет взрослым. Он не думал долго и ответил, что желает страстно научиться ремеслу золотых дел мастера, как хозяин мастерской в Старом городе. Когда приемные родители это услышали, они не могли вымолвить ни слова. Как возможно, чтобы еврейский подросток из хорошего дома стал мастеровым? Они бы хотели, чтобы он стал раввином, судьей или занял другую почетную должность в еврейской общине, но стать ремесленником и работать в лавке в переулках старого города среди толпы арабов, армян и турок? Не этого они ожидали. Что же делать? Сели и написали длинное письмо отцу и матери в Россию. В ответном письме те спрашивали, уважаемое ли это занятие, быть золотых дел мастером, и обеспечит ли оно их сыну достойную жизнь. После новых раздумий пришли к выводу, что так оно и есть, сели и написали еще одно письмо в Россию. Отец и мать на этот раз ответили, что они согласны, и пусть их сын обучается на золотых дел мастера.
Счастью Акивы не было границ. В те времена еще не существовала в Иерусалиме школа Бецалель, и приемные родители отдали мальчика в руки золотых дел мастера из Йемена, чтобы тот научил мальчика всем тайнам ювелирного мастерства. У Акивы был живой ум, и он не оставил занятий в ешиве, пока учился ремеслу. Спустя несколько лет, когда почувствовал себя самостоятельным, открыл Акива собственную мастерскую на улице Хабад в Старом городе в Иерусалиме. Он заслужил уважение своими способностями и умением, работал старательно и достойно зарабатывал себе на хлеб.
Итак, время шло. Мальчик превратился в молодого человека, твердо стоящего на ногах, и это не ушло из поля зрения окружающих, о нем стали говорить, и многие девушки хотели бы быть за него просватаны.
***
Слухи о жизни евреев в Стране Сиона доходили до евреев Галута и пробуждали в них, страдающих от преследований, погромов и кровавых наветов, желание подняться и уехать в Страну Израиля. Слух этот дошел и до города Яссы, что в Бессарабии, в котором жило много евреев, и побудил часть из них вырвать корни и направить свои стопы в Сион. Они ликвидировали свои дела, продали все, что можно было продать, оставили только одежду и те немногие вещи, которые могут понадобиться в дороге, а узелок с деньгами спрятали глубоко под одеждой, поближе к телу, чтобы чувствовать его все время и не потерять в дороге. Путь их поначалу лежал к Черному морю; кто добирался на повозках, а кто на лодках по Дунаю. А когда все собрались в порту, поднялись на корабль, и дальше плыли по морю в сторону Земли Обетованной. По дороге к ним присоединялись еще семьи со своими пожитками; из-за страха пострадать в пути они объединялись в большие группы. По окончании плавания наняли они повозки, запряженные лошадьми, и так началось их путешествие по суше к желанному месту, в Иерусалим.
Это был длинный и изнурительный путь, который кишел грабителями. В одной из таких повозок сидела девочка Хая, в будущем бабушка моей матери (моя сестра Хая названа в ее честь) со своими отцом, матерью, братьями и сестрами. И действительно, однажды напали на вереницу повозок разбойники и стали отбирать у едущих евреев деньги, украшения и вообще все, что было у них ценного. По рассказам, которые ходили о матери Хаи (бабушке моей бабушки) была она бой-баба, смелая и умная, как никто. Она сразу сообразила, что никак нельзя ей расставаться с деньгами, которые были спрятаны далеко под платьем. Она понимала, что грабители хорошо знают, где люди прячут деньги; и, когда они подскочили к ней, что сделала? Спрыгнула с повозки, всплеснула руками и разразилась отчаянным плачем и причитаниями на турецком, который немного выучила в дороге. Заливаясь горькими слезами, рассказала, что разбойники уже ограбили ее, и она не знает, на что купить «ак-мак» (хлеб) для своих детей. Когда грабители услышали этот плач и крики, поняли, что несчастную уже ограбили их «товарищи», и оставили ее в покое. И так добрались они до Иерусалима, сохранив свои деньги в целости и сохранности.
Семья наняла себе жилище в одном из переулков Еврейского квартала в Старом городе. Сыновья учили Тору, а девочки помогали матери по хозяйству.
Мешочек с деньгами, который мать спасла от разбойников-турок, очень помог им стать на ноги, и они открыли лавку напротив мастерской Акивы. Руководила всем делом, в основном мать, а Хая была рядом и помогала. Они продавали бусы и жемчужины арабским женщинам, а также яйца и виноград из Хеврона. Мать была умелой торговкой и могла безошибочно делать в уме сложные вычисления. И дочь Хая, которая была ее помощницей, училась у нее правилам торговли. Они подружились со своими соседями-евреями, ашкеназами и сефардами, жителями Старого города, учились у старожил и даже овладели арабским и ладино, что помогло им почувствовать себя своими в Старом Городе и приобрести друзей.
В те времена принято было у евреев, как и у их соседей арабов, выдавать девушек замуж в очень раннем возрасте. И так пришла пора выдать замуж Хаю, которой тогда исполнилось только двенадцать лет.
Акива, который был тогда восемнадцатилетним парнем, и имя которого было известно благодаря его старательности и другим достоинствам, заглядывал в лавку напротив и видел, что молодая девушка, которая помогает матери, хороша собой и проворна. Он послал к ее родителям свата и попросил ее руки. Родители ответили «да», согласились отдать свою дочь ему в жены. Составили «тнаим» (изложение условий, связанных с предстоящим браком – перев.), разбили тарелку и спустя какое-то время отпраздновали свадьбу по всем правилам. Стоит предположить, что невеста и жених особенно не встречались до свадьбы, только однажды в послеобеденное время привел сват означенного жениха в дом невесты с целью познакомить стороны; однако эти двое не приблизились друг к другу, остались сидеть на своих местах как окаменевшие, опустив от стыда глаза в землю, и не осмеливался даже будущий муж взглянуть на свою будущую жену. Когда встали прощаться, они сделали над собой последнее усилие, посмотрели друг на друга краем глаза, и их взгляды встретились. Пожениться они были согласны, на том и закончилось их первое знакомство. И потому получилось так, что после свадьбы, когда жених разглядел свою невесту, которая по закону уже стала его женой, он увидел, что она еще девочка, и играть в детские игры ближе ее сердцу, чем быть супругой. Он взял ее за руку, отвел назад домой к родителям и попросил оставить ее у них еще на год, чтобы посидела около матери и научилась у нее вести дом и семью.
Через год, когда ей исполнилось тринадцать лет, вернулась она в дом своего мужа Акивы, а еще через год у них родился первенец Йосель, который был моложе своей матери на четырнадцать лет. После Йоселя родились Мотл, Хана и Дина, моя бабушка, а потом еще несколько детей.
Еврейская улица, на которой когда-то жили Акива и Хая.Фактически заново построена после освобождения Старого города в 1967 году. Фото Э. Кравчик
Семья взяла в аренду дом на сорок девять лет. Дом был построен на крыше над рядом лавок на улице Йегудим («еврейская» – перев.), и крыши соседних лавок служили ему верхним двором. Бабушка Хая отправилась на улицу Бсамим («благовоний» – перев.), принесла оттуда отростки герани и посадила их в горшки с землей. Она покрасила горшки в ослепительно белый цвет с добавлением синьки для белья и выставила ряд горшков с огненно-красными цветами вокруг своего верхнего двора.
Дедушка Акива Найфельд, который был больше известен в Иерусалиме как Акива Гольдшмид благодаря своей профессии, очень любил технические новшества; он покупал все хозяйственные приспособления, которые появлялись в то время и приносил их домой. Так у них в доме появился первый примус, а затем и швейная машина. По рассказам мамы, в просторной жилой комнате стояла кровать под балдахином, большая и роскошная, которая принадлежала бабушке Хае, с кружевными занавесками, которые закрывали ее со всех сторон. В своих рассказах моя мама старалась не упоминать о жгучей тоске, которая охватывала ее, когда она вспоминала о днях своего детства, проведенных в доме дедушки и бабушки. Она рассказывала, что очень любила засыпать в огромной кровати рядом с бабушкой и утром просыпаться под звук шипящего примуса, на который бабушка уже поставила кофейник к завтраку.
Была большая любовь между дедушкой Акивой и бабушкой Хаей. Дедушка, который был обходительным, тихим и преданным своей жене всей душой, отдал в ее руки всю власть в доме. По характеру они дополняли друг друга на удивление. Насколько он был умеренным и безмятежным, настолько она была деятельной и расторопной. По-видимому, эти черты она унаследовала от своей матери. Она не ограничивалась заботами только о своей семье, но сновала между людьми и помогала слабым, старым и нуждающимся и даже заботилась иногда о том, чтобы отвести невесту под хупу. Прозвали ее за это «кох лефель» на идиш (ложка, которой мешают в кастрюле – перев.).
После окончания дневной работы принято было у бабушки посидеть в плетенном соломенном кресле, потягивая свою наргилу, и немного покурить в свое удовольствие в окружении детей, а потом и внуков.
Дедушка Акива работал в своей мастерской на улице Хабад. В качестве золотых дел мастера было у него право делать венец для Торы, кубки для вина и украшения для бейт-кнесета «Хурва» (синагога «Руина» – перев.) в Старом городе. Этот бейт-кнесет много позднее во время Войны за независимость был разграблен и разрушен солдатами Иорданского легиона, когда они захватили Старый город.
Синагога «Хурва» («Руина») в еврейском квартале. Для нее делал Акива венец для Торы.
Разрушалась дважды, теперь решили восстанавливать. Фото Э. Кравчик
В турецкой армии был великолепный духовой оркестр, и каждую пятницу под вечер он обычно играл на Русском подворье в «ротонде», а также по праздникам, во время парадов и военных шествий. Однажды пришел в мастерскую к дедушке Акиве турецкий офицер и спросил, может ли он в своей мастерской чинить духовые инструменты. Ответил ему Акива: «Не хочу Вас обманывать, по правде, я в этом не специалист, но, если Вы принесете мне инструмент, попробую что-нибудь сделать». Офицер принес ему кларнет; дедушка проверил все, изучил его устройство и сумел его починить. После этого турецкий офицер принес ему трубу; дедушка и ее починил. Так он изучил устройство и научился чинить все инструменты оркестра и даже сам выучился играть на некоторых. И тогда турецкий офицер спросил, готов ли дедушка таким образом обслуживать оркестр. Дедушка ответил согласием и стал постоянным служащим при турецком военном духовом оркестре.
Выдержка об этом на иврите того времени из книги одного из старожилов Старого города гласит: «На трубы, флейты и симфонии, на которых играли солдаты или другие музыканты, если умолкал их голос оттого, что разбились, ставил он легкие медные заплаты. А если находил трещину, заклеивал ее. А когда кончал починку, вставал и проверял звук на слух. А потом приходили солдаты и проверяли, все ли починено как следует, и потому весь день были слышны на этой улице трубные звуки».
На исходе субботы семья обычно собиралась у дедушки и бабушки, и после «хавдалы» (церемония окончания субботы и отделения ее от будних дней – перев.) пили вино, которое они делали сами из черного хевронского винограда.
Синагога «Хурва» («Руина») в еврейском квартале. Фото Э. Кравчик
А когда веселело от вина на сердце, дедушка начинал играть для общего удовольствия, а молодежь танцевала.
Дедушка Акива и бабушка Хая занимались и другими делами, такими, как торговля зерном. Они арендовали землю в плодородных местах рядом с Джерашем за Иорданом и наняли управляющим местного араба. Там выращивали пшеницу для выпечки мацы на Песах, а за ее кошерностью следил раввин из Иерусалима.
Однажды, будучи за Иорданом, остановился Акива у местных феллахов, чтобы поговорить об урожае и перевозе пшеницы в Иерусалим. Ночью, устроившись на своем ложе, услышал он, как его хозяева, думая, что он спит, говорят между собой: «Этот еврей слишком отягощен деньгами. Пришло время прикончить его, а деньги забрать». Он не сомкнул глаз и ждал, когда его хозяева уснут, и тогда вышел потихоньку наружу, вскочил на своего коня и галопом поскакал обратно в Иерусалим. После этого случая он полностью ликвидировал свой промысел за Иорданом.
Однажды вернулся дедушка Акива домой, после того, как запер свою мастерскую, и рассказал жене, что турецкие власти объявили о распродаже земель за стенами Старого города, и он уже дал им в руки задаток за участок земли. Его супруга, которой это известие совсем не понравилось, спросила, что он собирается делать с этой пустошью, полной камней и колючек. Разве не жаль выбрасывать на это деньги? Лучше пойти к властям и попросить обратно задаток. Так он и сделал в соответствие с ее желанием и отказался от договора. Вот что писал об этом в своей книге, которая вышла в свет в 1939 году, Хаим Гамбургер, из семьи старожилов Старого города:
«Одним из первых, желающих поселиться за городскими стенами, был человек по имени реб Акива Гольдшмид-Найфельд, а также его знакомый реб Йосеф Аптекарь-Райхман (здесь и далее “реб” – форма уважительного обращения, а не духовное лицо – перев.). Реб Акива Найфельд приехал в Иерусалим, когда ему было девять лет, был он тогда одет в кафтан и высокую поношенную бархатную шапку. Был он человек простой, прямой и бесхитростный; хозяйство у него было крепкое с несколькими домами на улице Хамрей Хеврон и лавкой, где торговали яйцами и битой птицей. Идти туда надо было с улицы Цабааим (“красильщиков” – перев.) на Кантара. Этой же дорогой шли на улицу Хабад и во двор р. Цадока. Когда ворота Иерусалима стали открываться по ночам, и страх перед грабителями утих, пришел р. Акива к своему знакомому р. Йосефу и сказал: “Давай пойдем и купим какой-нибудь участок земли за стенами”. Пошли и купили у арабов или у властей участок земли, который тянулся от городских ворот до конца теперешнего Русского подворья, там, где сейчас находится суд. Цена за локоть была одна или две монеты. Поначалу каждый дал задаток – половину турецкой лиры золотом (девять шиллингов) с тем, чтобы после измерения участка заплатить остаток. Когда пришел измеритель пообещали ему бакшиш – маджидию (турецкая монета – перев.) серебром (четыре шиллинга), чтобы уменьшил размеры, и все было в порядке. Однако жена р. Акивы (моя прабабушка – Ш.Ц.), которая была женщиной придирчивой и разговорчивой, пришла к нему с претензиями: “Акива, ты хочешь, чтобы разбойники отобрали эту землю, убили тебя, меня и наших детей? Ни за что не позволю тебе совершить такую глупость”. Не давала ему покоя, пока не отменили р. Акива и р. Йосеф сделку и не потеряли свой задаток.
Через какое-то время после того, как эта сделка была отменена, пришел р. Йосеф к своему приятелю и сказал: “Р. Акива, не хочешь ли быть моим компаньоном и купить участок?” Р. Акива решил, что на этот раз он не вызовет гнев своей супруги, потому что нет там грабителей и убийц, и ответил своему другу: “Я согласен с тобой объединиться”. Пошли они и купили участок, на котором теперь стоит Итальянская больница, поблизости от квартала Меа шаарим за ничтожную цену за локоть. Каждый дал задаток по турецкой лире золотом с тем, что остаток будет уплачен после измерения. Когда это дошло до жены р. Акивы, она отправилась к жене р. Йосефа с жалобой на то, что тот предлагает ее мужу дурацкое предприятие: “Если твой муж Йосеф хочет подвергать опасности себя и свою семью, то я ни за что не позволю своему мужу быть в этом участником. Чего он хочет от моего мужа? Использует простого человека, который согласен на все, что ему предлагают?”. Объединились две женщины вместе, чтобы помешать своим мужьям совершить покупку, плакали перед ними, чтобы не подвергали опасности себя и свои семьи, иначе найдут их всех убитыми. И в этот раз мужья отменили сделку, потеряли задаток, и на том кончилось их сотрудничество.
Из этой истории мы узнали, что р. Акива, золотых дел мастер, и р. Йосеф Райхман были одними из первых, что купили участки за городскими стенами, но жены связали их по рукам».
Прадедушка мой Акива любил свою работу и был ей верен до конца жизни. Однажды, когда он уже был старым человеком, его попросили изготовить подарок ко дню рождения кайзера Франца-Иосифа от еврейской общины Иерусалима. Дедушка стал расспрашивать близких к этому делу людей, может быть сделать футляр для сабли? Они ответили, что не хотят дарить предмет, связанный с войной. И тогда предложил им дедушка сделать из серебра футляр для свитка. Получилось настоящее произведение искусства. И по сей день этот футляр находится в особом отделе национальной библиотеки Австрии в Вене, где собраны все подарки, которые получил Франц-Иосиф в своей жизни.
Обычно среди дня дедушка ходил домой на трапезу, которую готовила его супруга. Как было принято, самые ценные вещи, которые тогда были в мастерской, он брал с собой. В один из дней он взял с собой тот самый футляр, который изготовил для Франца-Иосифа, вышел из мастерской и, чтобы запереть дверь, положил его рядом на каменную ограду. Он поднял и закрепил тяжелый засов на всю ширину двери, вставил замок в петли и запер его. В те времена память уже начала подводить дедушку. Забыл он о сокровище, которое лежало на ограде, и направился домой. Только когда был совсем рядом с домом, вспомнил о вещи, которая лежит там без присмотра, повернулся и поспешил назад к мастерской. Но не прошло много времени, как он услышал, что один еврей зовет его: “Р. Акива, р. Акива, не беспокойся! Я проходил мимо мастерской и нашел твое сокровище, передаю его тебе в целости и сохранности. На твое счастье, его еще не успели украсть!”
Дедушка Акива и бабушка Хая дожили до конца турецкой власти в Иерусалиме и вступления английской армии в город, но пережили это событие ненадолго. В то время разразилась в Иерусалиме эпидемия холеры; много людей умирало от этой болезни. И бабушка Хая заразилась и умерла.
Дедушка Акива чувствовал, что недолго ему осталось жить без любимой жены Хаи. Будучи большим сторонником английской армии, которая освободила землю Израиля от жестокого турецкого режима, он пожелал, пока жив, увидеть своими глазами хотя бы одного английского солдата. Дедушка попросил своего зятя Авраама Штампфера вывести его на улицу, чтобы он смог увидеть английских солдат. Возле здания старой турецкой тюрьмы стояли два солдата-австралийца. Авраам, который владел английским, объяснил, что старик – их большой патриот и хочет пожать им руки. Они подошли, подали ему руки и поцеловали его. Спустя две недели дедушка Акива умер, и его похоронили на Масличной горе рядом с его любимой женой Хаей.
***
Йосель был старшим сыном р. Акивы и Хаи; следом за ним родился Мотл. Вместе они составляли неразлучную пару, развлекающую публику, и предпочитали толкаться среди народа в Старом городе, чтобы рассказать и послушать шутки, вместо того, чтобы просиживать скамейки в бейт-мидраше и учить Тору, что больше бы услаждало слух их матери.
Среди дочерей памятна Хана, которая была замужем за Хаимом Залманом, евреем-хасидом с большой рыжей бородой. Он разбирался в мировых вопросах, которые были и за стенами бейт-мидраша, и вообще был хорошо образован. У них родились пять сыновей и одна дочь. Была между ними большая любовь, и в конце жизни они умерли с разницей в одну неделю. Это произошло во время Войны за Независимость, и их еще успели похоронить на Масличной горе буквально в последние дни перед тем, как пал Старый город и был захвачен Иорданским легионом.
После Ханы была еще одна дочь, и это моя бабушка Дина. Было еще несколько сыновей и дочерей, которые создали свои семьи.
Йосель, первенец р. Акивы и Хаи Гольдшмид, был очень живописной фигурой, которая чудесным образом вписывалась в переулки Старого города. Одетый в джибу, длинное полосатое одеяние, подпоясанное широким кушаком, с огромными карманами по бокам, в которых звенело несколько турецких медных монет, ходил он по переулкам Старого города и только поднимал шум, рассказывая, как он богат, чтобы люди услышали и позавидовали ему. Однако на самом деле он был бедным, совершенно неимущим, но веселым и добрым.
23 декабря 1929 года правительство Британии создало в Иерусалиме комиссию, которая получила название “Комиссия Западной Стены” или комиссия Шоу (во главе ее стоял судья Томас Шоу – перев.), чтобы расследовать кровавые события, произошедшие в августе 1929 года, когда озверевшая толпа арабов убила евреев, которые шли молиться к Стене Плача. Затем произошли погромы еще в нескольких местах, а в Хевроне убили шестьдесят человек, в том числе и учащихся ешивы.
Еврейская община Иерусалима должна была представить комиссии доказательства своих прав на это святое место – Стену Плача. Йосель, который говорил на арабском, как говорят бедуины, был послан в свое время, за тридцать восемь лет до описываемых событий, иерусалимскими евреями в Вифлеем купить камень, чтобы выложить мостовую в переулке перед Стеной Плача. Таким образом, он был приглашен дать свидетельские показания. Йосель предстал перед комиссией и дал показания, которые были подтверждены другими свидетелями-евреями.
Подлинную папку с этим делом обнаружил внук Йоселя Киваса (как он называл себя) адвокат Авраам Амитай. Вместе со своим сыном Бен-Ционом он нашел в Центральном архиве сионизма в Иерусалиме папку с документами комиссии Шоу, и в ней подлинные свидетельские показания, которые давали комиссии, и в них разворачивается картина того, что тогда происходило.
Эти свидетельства были приняты комиссией, и Стена Плача была официально признана как место молитвы для евреев. Евреи продолжали там молиться вплоть до Войны за Независимость, пока Старый город не был захвачен Иорданским легионом. После девятнадцатилетнего перерыва, когда во время Шестидневной войны был освобожден Старый город вместе со Стеной Плача, снова стали там молиться евреи, и молятся по сей день.
По природе вещей это событие стало известным в свое время, и его участниками заинтересовались. Батья Лишанская, художница и скульптор, пришла к р. Йоселю Кивасу, который сам по себе был очень колоритной личностью – истинный еврей, родившийся и проживший всю свою жизнь в закоулках Старого города, и в 1930 году, когда ему было семьдесят лет, его изображение появилось на холсте. Сейчас этот портрет висит в доме его внука Авраама Амитая в Рамат-Гане.
Портрет р. Йоселя Киваса – сына р. Акивы Гольдшмита, написанный Батьей Лишанской в 1930 году
В то время, когда шло обсуждение в этой следственной комиссии, с арабской стороны присутствовал там адвокат-араб по имени Абдул-эл-Хади из Хеврона. Йосель при обращении к нему говорил во втором лице (т.е. обращался прямо, тогда как в иврите более почтительным считается упоминание о собеседнике в третьем лице с указанием титулов – перев.), без церемоний, полагающихся в отношении такой важной фигуры, как адвокат. Это его уязвило и обидело, и он пожаловался, что Йосель унижает его достоинство. “Как же я могу обращаться к тебе? – ответил Йосель, – Ведь ты же для меня младенец, и я был приглашен на церемонию твоего обрезания!”. Как только уважаемый адвокат услышал это, изменилось его отношение к Йоселю, он поцеловал его и начал обращаться к нему как к человеку старшему и заслуженному.
«Я, нижеподписавшийся, Йосеф сын Акивы Гольдшмид…» – так он назвал себя перед лордом Эрлеем во время дачи показаний «Комиссии Западной Стены», и так это представлено в переводе с английского на иврит того времени:
PALESTINE COMISSION ON DISTURBANECES OF AUGUST 1929
«Я, нижеподписавшийся, Йосеф сын Акивы, житель Иерусалима, семидесяти лет, рожденный в Иерусалиме, сообщаю подробности, известные мне по поводу Западной Стены.
Я помню, как тридцать пять-сорок лет тому назад я мостил мостовую, существующую сейчас около Западной стены. Раньше была мостовая выложена плитами из тонкого и красивого, как мрамор, камня, но непрочного. Когда начали приводить в порядок мостовые на всех улицах Старого города, сначала сделали сточную канаву, и это продолжалось от двух до трех лет пока дошли до Западной стены. Как дошли до Западной Стены, вскрыли мостовую, выкопали сточную канаву и сделали стенки из камня. Когда я увидел это, начал кричать, что нельзя проводить сточную канаву вдоль Западной Стены. Пошел я к двум большим в Иерусалиме людям, это были р. Залман бар Нахум, ныне покойный, и господин Ицхак Роках, ныне покойный. С этими двумя, которые были самыми важными людьми в городе, пошли мы к Западной Стене и увидели канаву. И тогда они решили пойти к главе города Салиму эфенди Хусейни. Отправились мы все к Салиму эфенди (эфенди – вежливая форма обращения в Турции) Хусейни и сказали: “Как можно, чтобы в месте святом для евреев сделали сточную канаву, чтобы была она под ногами молящихся?” Салим эфенди Хусейни дал распоряжение немедленно канаву разрушить. Назавтра снова пошли к Салиму эфенди Хусейни и поблагодарили его за вчерашнее распоряжение и спросили, как и какими камнями он хочет мостить это место. Он ответил: “Камнями простыми, как на всех улицах”. Ответили мы: “Нехорошо перед всем миром, чтобы такое святое место было вымощено простыми камнями”. Ответил на это Салим эфенди Хусейни такими словами: “Вы там молитесь, и для вас это действительно бейт-кнесет, а мы должны давать деньги на мостовую? Мы (городские власти) на это денег не дадим, но, если вы хотите, можете привести камень и вымостить как вашей душе угодно…” Уважаемые господа Роках и р. Залман, упомянутые выше, послали меня в Вифлеем купить камень для мостовой. Отправился я в Вифлеем, купил плиты, и вот они сейчас лежат на месте. Когда я привез плиты, Салим эфенди Хусейни позвал уважаемых господ Рокаха и Залмана и сказал им: “Если вы сами будете укладывать плиты, вам нужно получить разрешение правительства”. Эти двое последние подали прошение паше, паша сделал на нем необходимые пометки, затем просьба перешла к городским властям, и они дали разрешение. Деньги на покупку камня дали евреи, как частные лица, так и общины. Я служил в Хеврат Кадиша (похоронное общество – перев.) и покупал камни на памятники, поэтому покупку камня передали в мои руки. Камень из Вифлеема очень прочный, поэтому я его и выбрал. Я бывал у Западной Стены часто и много раз. Во время засухи выходили к Стене, просили прощения и трубили в шофар, во время болезней или еврейских погромов в Галуте молились у Стены Плача. Дом кадия (религиозный судья у мусульман – перев.) был сразу за судом, так что он и члены суда должны были слышать и звук шофара и полночную молитву и никогда не мешали и не протестовали. Всегда около стены видел воду, ею пользовались коганим для омовения рук, перед тем как взойти на возвышение, чтобы благословить народ. Вдоль стены всегда видел длинные скамьи, на ночь их заносили в ближайший двор…».
***
За стенами старого города
Йосель жил в Старом городе до последнего своего дня. Многие годы, до старости, самыми далекими были для него поездки в Вифлеем, Хеврон и новые районы Иерусалима, построенные за городскими стенами. Но действительность, наконец, вмешалась и бросила его в новые и незнакомые места, например, в маленький Тель-Авив. Так, его дочь Шошана вышла замуж за парня по имени Либа, который был офицером полиции во времена британского мандата. Они жили в Тель-Авиве. Родились три сына, и Йосель всей душой рвался к внукам. Однажды он осмелел, отправился в дорогу и приехал в Тель-Авив.
А в Тель-Авиве есть море! Такое чудо обязан был Йосель увидеть своими глазами, и, если у него хватит духа, может быть окунет он ноги в соленую воду.
Пришел он к морю, и у него перехватило дыхание, и глаза готовы были выскочить из орбит. «Думал, – рассказывал Йосель, – что море как пять или шесть микваот (ед. число “миква” – бассейн для омовения – перев.) в бане Иерусалима, ну как семь или восемь, Б-же упаси, но, что оно такое большое, в жизни бы не поверил, чудо из чудес!»
Так как Йосель уже вышел в большой мир, он решил не обидеть Эстер, мою дорогую маму, которая жила с мужем и тремя детьми в Петах-Тикве. Он сел в “дилижанс” и приехал на полный народа большой рынок в Петах-Тикве. Он предполагал, что и здесь все друг друга знают, как на рынке в Старом городе или хотя бы на рынке в Меа Шаарим. И так он шел от местного жителя к халуцу («пионер», первопроходец – перев.), который приехал из ближних мест, от него к рабочему, которому случилось здесь искать работу и спрашивал: «Знаешь ли ты, где живет дочь моей Дины?» Разумеется, никто не был знаком ни с его Диной, ни с ее дочерью Эстер. Тут проходил один иерусалимец по имени Мэйшке, он был знаком с Йоселем еще в Старом городе. Подошел он и сказал: «Пойдем, Йосель, я отведу тебя к дочери твоей Дины».
Младший его брат Мотл был уже человеком большого мира. Он ездил по мошавам Реховот, Хедера, Петах-Тиква и т.д. как представитель различных организаций, таких как ешивы, сиротские дома и т. п. собирать пожертвования. Он часто приезжал к нам, оставался ночевать и превращал наш дом в центр своих вылазок в эти мошавы. Несмотря на приближающуюся старость, здоровье его было в отменном порядке, и шутки сыпались из него, как во времена его молодости в переулках Старого города.
***
В молодости учились Йосель и Мотл в ешиве в Старом городе. Видно их мать Хая, будучи женщиной сильной и настойчивой, не теряла надежды увидеть их учеными людьми и смогла усадить их на учебную скамью на какое-то время. Ешива располагалась напротив их дома, и, возможно, что у матери было удобное место следить за сыновьями, чтобы те не сбежали и не отправились бродить по улицам Старого города.
Товарищем Йоселя и Мотла по учебе был молодой парень по имени Авраам Штампфер. Он был младшим братом Иешуа Штампфера, одного из основателей Петах-Тиквы. Иешуа пришел в Страну пешком из Венгрии (в книге, подготовленной к изданию к пятидесятилетию Петах-Тиквы в 1928 году, рассказывается, как он дошел пешком до «еврейского города Салоники», там ему помогли сесть на корабль, направлявшийся в Смирну, а оттуда он уже «взошел» в Иерусалим – перев.). Он обнаружил, что еврейская община в Стране находится в унизительном положении и существует на деньги «халуки», т.е. пожертвований, присылаемых евреями Галута. Он подружился с Юалем Моше Соломоном, иерусалимцем, и Давидом Гутманом, состоятельным человеком, выходцем из Венгрии. Они были едины во мнении, что сыны и дочери Иерусалима должны отказаться от образа жизни их отцов, подняться и основать сельскохозяйственные поселения, чтобы достойно зарабатывать на жизнь своим трудом. Так была создана «мать поселений» Петах-Тиква.
Вслед за старшим сыном приехала из Венгрии в Страну вся семья во главе с р. Беньямином Штампфером: жена Хана и дети, в том числе и младший сын Авраам. Они поселились в Иерусалиме и стали очень уважаемыми людьми в еврейской общине выходцев из Венгрии и среди местных жителей. Аврааму, когда они прибыли в Страну, было четыре года. Еще будучи подростком, он присоединился к старшим братьям Иешуа и Иегуде-Менахему и поселился в Петах-Тикве. В субботние и праздничные вечера, заставляли подростков, у которых еще не было своих семей, стеречь гумно. В ту ночь была очередь Авраама сторожить. Была кромешная тьма, и вдруг напали несколько арабов (как выяснилось потом, из округи) на гумно, чтобы украсть зерно. Они открыли стрельбу. Авраам был ранен пулей из винтовки, которая попала в голень и застряла там до самой его смерти. Он открыл ответный огонь. На выстрелы прибежали поселенцы и забрали его, так как он нуждался в медицинской помощи. Наутро нашли одного из грабителей распростертым на земле без признаков жизни. Аврааму необходимо было скрыться, чтобы спасти свою жизнь, потому что в мошаву уже прибыли турецкие жандармы для расследования. Поселенцы дали Аврааму старого коня и приказали немедленно исчезнуть из округи. Так он, будучи раненным, выехал на коне и уехал далеко на север Страны. Какое-то время он скрывался в Цфате, а, когда буря улеглась, вернулся в Иерусалим и стал учиться в ешиве.
Друзья Авраама, два паренька, уроженцы Старого города Йосель и Мотл прекрасно сочетались со своим окружением, носили, как было принято, восточные одежды и нашли общий язык со своими соседями арабами, турками и армянами. Авраам Штампфер был совсем другим; он был человеком европейской культуры, и хорошие манеры были ближе его сердцу, чем «левантийская» жизнь Старого города. Однако это не помешало ему поглядывать в сторону дома Йоселя и Мотла, разглядеть их сестру Дину, которая была красивой девушкой и влюбиться в нее. История этой любви была исключительна для того времени. Сват, который устраивал браки в еврейской среде, в это дело не был замешан, так как это была любовь с первого взгляда.
Авраам Штампфер, дед Шошаны по матери
Р. Беньямин, который давно овдовел, заботился о том, чтобы дети обзавелись своими семьями. Когда подошло время сына Авраама, стали сватать за него девушек из самых лучших семей, но он откладывал женитьбу и не говорил почему. В конце концов, отец вызвал его на разговор и спросил, что это значит, почему он не хочет жениться? «Я не осмеливался сказать тебе, отец, – ответил Авраам, – но, если уж ты спросил, я отвечу. Я не отказываюсь жениться, наоборот, очень хочу, потому что душа моя стремится к Дине, дочери р. Акивы Гольдшмида, золотых дел мастера из Старого города; но я опасался, что такое сватовство не покажется тебе достойным, и ты будешь против». Когда р. Беньямин услышал это, он успокоил сына и сказал, что, напротив, в его глазах очень достойно породниться с тем, кто зарабатывает на жизнь своим трудом. «А, во-вторых, сын, – сказал он, – у тебя нет матери, а сиротам не отказывают в просьбе». Послал р. Беньямин свата к р. Акиве и его жене Хае и попросил их отдать их дочь своему сыну в жены. Разумеется, р. Акива и его жена с радостью согласились породниться с таким уважаемым семейством.
Авраам и Дина Штампфер, мои дедушка и бабушка, поженились, в добрый час, и решили поселиться в Старом городе. Там, в «хуше» (двор по-арабски – перев.) в Еврейском квартале, где, по-видимому, жила повитуха, родились у них первые четверо детей. Первой родилась Хана, следом за ней Шломо, Ривка и Эстер, моя мать. Поскольку я знала идиш, то могла беседовать с бабушкой и услышала от нее рассказы из времен ее молодости в доме ее свекра р. Беньямина Штампфера. Так как она родилась и выросла в Старом городе, ей пришлось сделать над собой усилие, чтобы приспособиться к европейскому стилю жизни в доме Штампфера. Она рассказывала о семейных обедах, о столе, сервированном серебряной посудой, и о вежливых церемониях, принятых между членами семьи. Однако р. Беньямин со свойственными ему великодушием и благородством считался с невесткой и, чтобы она почувствовала себя своей среди членов семьи, всегда старался подчеркнуть ее преимущества и похвалить ее перед всеми за преданность семье и прекрасное знание наизусть порядка молитв и благословления после еды.
Бабушка Дина с дочерьми и внуками в Иерусалиме. Девушка с длинными косами – это Эстер, мать Шошаны
Тем временем начали строить новые кварталы за стенами Старого города. Дедушка Авраам Штампфер, будучи человеком современным и знакомым с последними достижениями культуры, воспользовался первой возможностью и оставил Старый город. Поначалу поселилась семья в квартале Ахва, в котором жили уважаемые в городе люди из общества «Ахва» («братство» – религиозное благотворительно-просветительское общество). Этих людей объединяли общие взгляды на современный мир и отношения в семье. Позднее они переехали в новый район, который был построен напротив Меа Шаарим под названием Батей унгарим, основанный группой хасидов из Венгрии. В свое время р. Иешуа Штампфер был послан в Соединенные Штаты собирать деньги для его постройки. Тогда же жители Петах-Тиквы вынуждены были временно оставить свое поселение из-за вспышки малярии, от которой многие умирали. Он согласился поехать только с тем условием, что ему позволят собирать деньги и для Петах-Тиквы и ее жителей. И так оно и было.
В Батей унгарим родились у Авраама и Дины еще трое детей: Мэир, Рахель и Юдит. Р. Авраам Штампфер отличался от остальных жителей квартала; те носили хасидские одежды: черный длинный лапсердак, белые носки, а по субботам, праздникам и другим торжественным дням одевали «штреймел» (высокую обшитую мехом шапку – перев.), а Авраам носил обычный европейский костюм с коротким сюртуком и английскую шляпу с полями, какие носили в Лондоне.
Евреи Иерусалима принадлежали к различным еврейским общинам Галута и существовали на деньги «халуки», которые присылали им евреи их общин. Они не работали, а сидели целый день на скамьях в бейт-мидраше и учили Тору. В отличие от них дедушка Авраам отказался брать деньги «халуки». Он обычно рано вставал и шел в «штибл» (небольшое помещение, используемое для молитвенных собраний – перев.) на утреннюю молитву, когда там молились рабочие парни, хозяева небольших мастерских и другой простой народ, который спешил на ежедневную работу. Дедушку Авраама знали в Иерусалиме как члена высокопоставленной семьи, которая занималась в том числе и сбором денег на общественные нужды. Жители района обратили внимание на его «странное поведение», но, несмотря на это, продолжали его уважать. После молитвы торопился Авраам на работу, чтобы прокормить семью. Он работал наборщиком в типографии, а когда свинец повредил его здоровье, начал работать в компании «Зингер» как агент по продаже швейных машин. Дедушка Авраам любил бабушку Дину, очень считался с тем, что она смотрит за семью детьми, и делал все, чтобы поддержать ее. В те времена хлеб пекли дома. Дедушка помогал бабушке месить тесто. Потом раскатывали его, делили на буханки и, перед тем, как идти спать, выкладывали их на противень, чтобы за ночь тесто поднялось. Назавтра рано утром относил дед Авраам противни в пекарню, что была напротив их дома, ставил в печь, а оттуда продолжал свой путь на молитву. Когда возвращался после молитвы, хлеб был уже испечен, он забирал его, относил семье, а потом уже шел на работу.
В те времена все еще не было проточной воды в городских жилищах; у каждой семьи в кухне стояла «танжия», большой глиняный кувшин. Местный водонос набирал воду из колодца, который был во дворе, приносил ее на коромысле («асаль») с двумя ведрами и выливал в «танжию» для нужд семьи. Когда наступала «Симхат бейт ха-шоэва» («праздник черпания воды» – перев.) на исходе праздника Симхат Тора, хасиды после молитвы в бейт-кнесете ходили из дома в дом, врывались в кухни, вытаскивали танжию на веранду или во двор, переворачивали ее и выливали воду на землю; и все танцевали и прыгали через лужи в память о возлиянии воды в Храме в ожидании прихода сезона дождей. И об этом сказали мудрецы: «Кто не видел веселья бейт ха-шоэва, не видел веселья в своей жизни».
В те дни еврейская община в Иерусалиме была очень далека от идеи самообороны, и бывали случаи, когда разбойники и воры-арабы этим пользовались и грабили все, что предоставлялось возможным. Из-за страха перед грабителями, который охватил еврейских жителей Иерусалима, они стали нанимать сторожей, тоже арабов, которые бы их защитили. В каждом районе был свой охранник. Часто сам этот страж подкрадывался, чтобы напугать жителей, постучать в дверь или оставить следы грабежа, а наутро приходил и с чувством рассказывал, как ночью он прогнал воров и разбойников. Разумеется, все были благодарны ему за спасение, и деньги сыпались ему в руки.
В арабском квартале Старого города мало что изменилось. Фото Э. Кравчик
Позади дома Штампферов на ступенчатом склоне было открытое поле, которое граничило с кварталом Бейт Исраэль. Каждый день в послеобеденные часы там появлялось стадо черных коз с пастухами-бедуинами; хозяйки спускались с банками в руках, чтобы купить молоко, надоенное прямо в их посуду. Много лет спустя и я удостоилась поручения бабушки Дины спуститься вниз в поле и принести полную банку свежего и душистого молока. Продукты покупали на рынках Меа Шаарим или Махане-Йегуда, или иногда шла бабушка Дина делать покупки на рынок Старого города и в этом случае навещала своих родителей Акиву и Хаю, пока они были живы. Они прожили всю свою жизнь в одном и том же доме над лавками, с тем же верхним двором.
Однажды, возвращаясь из Старого города через Яффские ворота, Дина обратила внимание на скопление людей на улице Невиим («пророков» – перев.). Она приблизилась к этому месту и увидела военных в белой форме верхом на лошадях в доспехах. Так она стала свидетельницей исторического события, когда кайзер Вильгельм Второй встречался с доктором Герцелем. Это был 1898 год.
В арабском квартале Старого города мало что изменилось. Фото Э. Кравчик
Из-за тяжелого материального положения в Иерусалиме пытался дедушка Авраам испытать свою судьбу далеко от дома. В надежде заработать, чтобы обеспечить семью, он поехал в Австралию. Но работать там надо было шесть или даже семь дней в неделю, а это нарушало святость субботы. Для него, как человека верующего и соблюдающего традиции, это было невозможно. Он провел там три года и вернулся в Страну как раз перед самым началом Первой мировой войны.
Когда в 1914 году разразилась Первая мировая война, ситуация в Стране вообще и в Иерусалиме в частности еще более ухудшилась. Деспотические турецкие власти были настроены недружелюбно по отношению к населению, в том числе и к еврейской общине. Турецкая армия и ее союзники, главным из которых была Германия, проигрывали большинство сражений. Они знали, что евреи с нетерпением ждут день, когда английская армия вступит на Землю Израиля, поэтому жестоко наказывали евреев за каждый неверный шаг и малейший проступок. Был ужасный голод в Стране и в Иерусалиме. Турецкие власти не обеспечили доставку необходимого продовольствия жителям, да и сама турецкая армия была раздета и разута. В Иерусалиме начались эпидемии, которые оставили после себя множество сирот. Авраам и Дина Штампфер и их дети, являясь австро-венгерскими подданными, были в лучшем положении. Они имели право обратиться за защитой к немецким офицерам, союзникам турок, и ни один турецкий солдат не осмелился бы причинить вред еврею, являющемуся подданным Австро-Венгерской империи. Они также получали продуктовое пособие и не подлежали призыву в турецкую армию. В то время служить в турецкой армии означало верную смерть. Солдаты больше умирали от болезней и эпидемий, чем от ран. Поэтому многие люди, которые подлежали призыву, прятались на чердаках и в других укромных местах. За укрытие дезертира или другую, даже незначительную провинность, которая считалась преступлением в глазах турецких властей, полагалась смерть через повешенье. Бывали случаи, когда торговцы отказывались брать плату бумажными турецкими деньгами, потому что всем было понятно, что с окончательным поражением турок эти деньги потеряют всякую ценность. Поэтому торговцы требовали золотые монеты. Когда об этом донесли турецким властям, они обвинили людей в оскорблении турецкой валюты и приговорили к смерти через повешенье. В те дни было это обычным зрелищем: проходя мимо Шхемских ворот, видеть качающиеся там тела повешенных.
Мэир, сын Авраама и Дины, уехал в Петах-Тикву еще до начала Первой мировой войны, и родители посоветовали ему пока не возвращаться в Иерусалим. Эли-Давид, сын Шломо Штампфера из Петах-Тиквы, племянника дедушки Авраама, учился в то время в ешиве в Иерусалиме, и его разыскивали турки, так как он был военнообязанным. Дедушка Авраам взял его в свой дом, раздобыл ему поддельные документы, якобы он их сын Мэир и даже сделал семейную фотографию с ним в числе членов семьи. Мэир, который был моложе Эли-Давида и был тщедушного телосложения, явился вместо него на призывной пункт в Петах-Тикве, был забракован, как и предполагали в семье, и отправлен домой. Но, как уже говорилось, был голод в Иерусалиме, люди не знали, как прокормить себя и своих детей и ради этого были готовы на все. Так нашелся один еврей, известный доносчик по прозвищу Касавер, называли его так по городу Касав в Волыни, откуда он был родом. Он вызвался передавать дезертиров в руки турецких властей за большое денежное вознаграждение и донес на деда Авраама, якобы тот прячет дезертира Эли-Давида Штампфера из Петах-Тиквы.
И однажды глубокой ночью турецкие жандармы стали колотить ногами в дверь дома, где жила семья Авраама Штампфера. Открыли им дверь со страхом и ужасом, и они ввалились в дом с криками и требованием выдать им в руки дезертира. Дедушка Авраам старался сохранять присутствие духа и клялся всеми святыми, что это его сын Мэир, предоставил им поддельные документы и семейную фотографию. Фактически он был на грани между жизнью и угрозой быть повешенным, но, на большое его счастье, после того, как зашелестели в карманах жандармов немалые деньги, и благодаря Всевышнему, его оставили в покое.
В день, когда в ворота города вошли во главе с генералом Аленби англичане, сидящие на конях, каких еще не видели в Стране, были большая радость и ликование в Иерусалиме. Бледные люди вылезали из своих укрытий, из подвалов и тайников на чердаках, где они прятались от службы в турецкой армии. Мама рассказывала: отец ее Авраам Штампфер взял детей, чтобы показать им вступление англичан в Иерусалим. А потом встал на ступеньках у входа в один из домов, открыл бутылку вина и раздавал его всем прохожим.
***
Крайне религиозные жители района Батей унгарим, подчиненные раввинам и фанатичным лидерам общины, воспитывали своих детей в строгости. Мальчики учились в хедере и в ешиве, но девочкам запрещалось ходить в школу.
К девочкам в семье деда по вечерам, чтобы их никто не видел, ходили два учителя. Один учил девочек ивриту и грамматике, а второй – английскому языку. В квартале было запрещено говорить на иврите, поскольку это святой язык, и пользоваться им можно только для молитв и изучения Торы. Разговорным языком детей был идиш. Люди квартала и их лидеры-фанатики были против сионизма; они ждали прихода Мессии и считали, что до этого события они все еще находятся в Галуте. Авраам Штампфер мечтал, чтобы его дочки учились в школе, но знал, что если он пошлет их в школу, руководители общины его проклянут, чего он не мог себе позволить ни с точки зрения положения семьи в обществе, ни с точки зрения материальной.
Моя мама Эстер, старшая среди маленьких девочек в семье, и, по-видимому, смелая, взяла за руки двух младших – Рахель и Юдит – и, не сказав родителям ни слова, отправилась с ними в школу. Она понимала, что отцу лучше об этом не рассказывать; и если поймают их «стражи скромности», он сможет утверждать, что ничего не знал. Когда отцу стало известно, что его дочери ходят в школу, он сделал вид, что ничего не знает, хотя был очень доволен.
Поначалу три девочки учились в школе «Эзра» («помощь» – перев.), основанной выходцами из Германии, которые открыли школы для еврейских детей в Иерусалиме, Яффо и Хайфе. Разговорным языком и языком обучения в этой школе был немецкий. Девочки оставляли сумки с учебниками у родственников, которые жили вне их квартала, а также всегда были в скромной одежде, когда возвращались домой из школы. Они проучились там три года, а потом в Иерусалиме разразилась «война языков». Был создан «батальон защитников иврита», который посылал свою молодежь на улицы и в общественные места. Они обращались к каждому еврею, который говорил на идиш или на другом языке и требовали: «Иври, дебер иврит!» («Еврей, говори на иврите!» – перев.).
Разумеется, и дед Авраам согласился с этой идеей и сказал: «Наши девочки будут учиться в ивритской школе!» И тогда они перешли в школу Лемеля, где преподавали на иврите. Оттуда перешла Юдит, которая была отличницей, в школу «Мисс Ландау» (Эвелина де Ротшильд), в которой языком обучения был английский. Юдит владела языками: английским, французским, немецким и арабским.
Дедушка Авраам Штампфер умер в 1920 году в сравнительно молодом возрасте. Он похоронен на еврейском кладбище на Масличной горе поблизости от «Яд Авшалом» (по традиции – сооружение над могилой Авессалома, сына царя Давида – перев.). После себя он оставил вдову, которая должна была заботиться о детях, ведь младшей Юдит было только одиннадцать лет. Чтобы как-то прокормиться вынуждена была бабушка Дина принимать деньги «халуки» от колеля (общинное самоуправление – перев.) – то, что дедушка Авраам отказывался делать всю жизнь.
Старшая дочь Хана была уже замужем и растила своих детей. Они были уважаемой семьей в Хедере. Ее муж Иосиф Хаим Перл работал менакером, обеспечивал кошерность мяса. Он также обладал красивым голосом и был кантором в бейт- кнесете.
Сын Шломо с женой и детьми сначала жил в Хедере, он там работал провизором; потом уехал в Австралию и жил там до самой смерти. Его внук Миха с семьей живет в Иерусалиме.
Вторая дочь Дины Ривка (Ика) и ее сын Давид остались жить с бабушкой в Батей унгарим. Во время Второй мировой войны Давид Сегаль в составе британских войск служил в Западной (Ливийской) пустыне в Африке.
Моя мама Эстер нашла работу и стала сама зарабатывать на жизнь. Это было время после Первой мировой войны, когда появилось множество сирот, родители которых умерли от эпидемий или от голода; о них надо было как-то заботиться, и так появились сиротские дома. Эстер работала воспитательницей в доме для сирот, который основал доктор Гольдшмид, еврей из Голландии, человек культурный, который приехал в Иерусалим с женой и тремя дочерьми. Он был педагогом высокого уровня, и дети в его доме получали превосходное воспитание. Тогда по инициативе доктора Файловича (исследователь эфиопских евреев – перев.) привезли из Эфиопии пять подростков из общины «фалаша» и поместили их в заведение доктора Гольдшмида. Эстер стала их воспитательницей. Они были прекрасными учениками, и часть из них потом отправили в Германию для продолжения учебы. Они вели с Эстер задушевные беседы, и их очень тревожили мысли о будущей жизни среди белых людей.
В стенах этого заведения для сирот войны бродил, как раненный зверь, еще один человек. Это был хороший друг доктора Гольдшмида еще по учебе в университете в Голландии профессор Исраэль де Хаан, который превратился из ассимилированного еврея в религиозного фанатика и присоединился к самым крайним религиозным кругам, вроде раввина Зонненфельда. Он был против сионизма и даже обращался вместе с профессором Зонненфельдом, к британскому правительству с призывом препятствовать еврейской иммиграции в Страну и не допустить создание еврейского государства, что нанесло большой вред еврейской общине. Он знал, что за ним охотятся, и нашел убежище у своего друга, руководителя сиротского дома. Порой он нуждался в различных услугах и один раз обратился к моей маме Эстер на арабском; он знал, что она владеет этим языком и хотел в нем поупражняться. Но Эстер сказала ему, не скрывая возмущения, что она отказывается говорить с ним по-арабски и ответит ему, только если он обратится к ней на иврите. Атмосфера в Иерусалиме была очень враждебной по отношению к нему. Свои дни он проводил в молитвах, уткнувшись в арон-ха-кодеш (шкаф, в котором хранят свитки Торы – перев.) в бейт-кнесете сиротского дома. Однажды он объявил своему другу доктору Гольдшмиду, что он обязан сходить к себе домой на расстоянии нескольких кварталов от сиротского дома. Доктор предупредил его, чтобы не смел выходить наружу, но он ушел, а через короткое время услышали выстрелы, которые положили конец его жизни. Он не ушел далеко. Те, кто охотились за ним, подстерегали в засаде и прикончили его. (Де Хаан был убит у входа в синагогу больницы Шаарей Цедек 30 июня 1924 года Считается, что это было первое политическое убийство в Израиле – перев.)
Моя мать Эстер ездила навещать родственников в Петах-Тикве, познакомилась с халуцом Ицхаком Штерном из местечка Рускова, что в Трансильвании, и вышла за него замуж. Они были одними из основателей Кфар Ганим около Петах-Тиквы. У них родились трое детей: Авраам, я и Хая.
Мэир Штампфер, младший брат, тот самый, которого забраковали на турецком призывном пункте, жил во время Первой мировой войны в Петах-Тикве. Когда при приближении фронта турецкие власти распорядились выселить еврейское население из Петах-Тиквы, встал вопрос, что делать с архивом мошавы и где его спрятать. Мэир работал на пардесах, ему были знакомы все тропинки, и он взял на себя труд спрятать архивы в колодце на пардесе Шломо Штампфера. После Первой мировой войны Мэир переехал в Хедеру и жил там поблизости от сестры Ханы, потом присоединился к организации «Бней Беньямин», которая образовалась в 1928 из молодежи старых мошав и стал одним из основателей Натании.
После того, как Эстер покинула Иерусалим в связи с замужеством, заботы о заработке легли на младших сестер Рахель и Юдит, которые к этому времени закончили учебу. Рахель тоже работала в доме для сирот, а также стала заниматься шитьем. У нее обнаружились таланты в рукоделии, свидетельством чему семейные фотографии в альбомах, где она и ее сестры одеты в нарядные платья по моде того времени – похвальное дело рук Рахели. Рахель вышла замуж за халуца из Латвии Арье Шумахера. Они жили в Иерусалиме, а, когда вышли на пенсию, переехали поближе к дочерям в мошав Нир баним. Сын их Натан был алюф-мишне (соответствует званию полковника – перев.) в бронетанковых войсках.
Юдит, «мизинка», закончила с отличием школу «Мисс Ландау» и получила место в «Хакшарат хаишув» («Палестинское бюро для приобретения и заселения новых земель» – перев.), вышла замуж за халуца из Белостока, они жили вначале в районе Ромама в Иерусалиме, а в 1946 году переехали в Гиватайм. Позднее они поселились в киббуце Зиким, где жил их сын с семьей; Юдит работала там учительницей в школе.
Дети бабушки Дины любили ее и заботились о ней и после того, как создали свои семьи, но больше всего делали для нее Рахель и Арье. Арье Шумахер был одним из первых водителей автобусной компании «Мекашер» в Иерусалиме. Он водил автобус по девятому маршруту: из города в больницу Адаса и университет на Хар-а-Цофим. У него было золотое сердце. Бабушка Дина жила в их доме многие годы, и они преданно и верно о ней заботились. Рути и Яэль, дочери Рахель и Арье, рассказывают, что в канун субботы и праздников они сопровождали бабушку в бейт-кнесет, потому что одной ей было трудно ходить из-за старости и из-за плохого зрения. Она надевала праздничную одежду, которую берегла только для таких случаев: белое платье в синий горошек, белый кружевной передник и белую шаль. Дома, после молитвы Арье, ее зять из уважения к ней освящал вино и проводил традиционную встречу субботы, хотя семья не была религиозной. Благодаря бабушке Дине дети научились уважать еврейские традиции и следовать им.
Невозможно рассказывать о бабушке Дине, не упомянув ее табакерку, которую она держала в кармане платья. Вижу, как время от времени она открывает ее, берет кончиками пальцев щепотку табака, подносит ее к ноздре, делает глубокий вдох и блаженствует… Когда я вспоминаю бабушку Дину, я чувствую в носу острый запах ее табака.
В период Войны за Независимость во время осады Иерусалима, когда снаряды, выпушенные из Невей-Самуэль и Мар-Элиас, разрывались над домом, бабушка Дина держалась мужественно, не жаловалась и старалась не утруждать никого. Не хватало продуктов питания, и вода была ограниченна, в доме не было убежища. Бабушкину кровать перенесли под лестницу, а у входа на лестничную площадку поставили мешки с песком. Когда закончились бои, и стали высыпать песок из этих мешков, обнаружили там большое количество осколков. Ситуация была нелегкой, особенно для женщины почти восьмидесяти лет.
Иорданский легион, заняв Латрун, господствовал над дорогой, которая соединяла Иерусалим с прибрежной полосой. Начались тяжелые бои, чтобы выбить их оттуда, но безуспешно. Пока что решили прорваться в осажденный Иерусалим окружным путем, известным как «дерех Бурма» (т.н. Бирманская дорога к югу от Латруна – перев.). Благодаря этой дороге город был спасен от голода и капитуляции, на которую он был обречен из-за нехватки продовольствия, оружия и боеприпасов. По этой дороге вывез бабушку Дину из Иерусалима к нам на побережье ее зять Арье Шумахер, чей автобус одним из первых прошел по дерех Бурма; и этот путь она в своем старческом возрасте перенесла героически.
Бабушка была в курсе всего, что происходило в Стране, она очень почитала Бен Гуриона, а, когда умер первый президент государства Хаим Вайцман, сидела у радиоприемника с заплаканными глазами.
Бабушка Дина очень любила слушать по радио передачи на идиш и интересовалась всем, о чем там рассказывалось, а, когда слышала музыку, притопывала ногами, обутыми в аккуратные черные туфли.
Бабушка Дина прожила долгую жизнь. Она умерла в 1952 году в возрасте восьмидесяти двух лет. Ей довелось дожить до образования государства Израиль, но Иерусалим уже был разделен, что помешало семье похоронить ее рядом с любимым мужем Авраамом Штампфером на Масличной горе, и она похоронена на Гар-а-Менуха (горе Успокоения – перев.) в иерусалимском районе Гиват Шмуэль.
Примечания переводчика
[1] Военные союзы во время Первой мировой войны: Центральные державы (Германия, Австро-Венгрия, Турция, Болгария) против союзников – Стран Антанты (Франция, Великобритания, Россия, Япония, Италия, Сербия и США). Политическая ось Берлин-Рим была создана перед Второй мировой войной в 1936 году. В 1937 году к ней присоединилась Япония.
[2] «Кровавые наветы» – обвинения евреев в ритуальных убийствах и использовании крови, известны в Европе с XII века. Менахем Мендель Бейлис – жертва кровавого навета, обвиненный в 1911 году в Киеве в убийстве Андрея Ющинского.
[3] Альфред Дрейфус, офицер французской армии, еврей, ложно обвиненный в 1894 году в шпионаже в пользу Германии, что послужило началом антисемитской компании во Франции. Огромная роль в восстановлении справедливости принадлежала Эмилю Золя.
[4] «ха-поэль ха-мизрахи» – религиозно-сионистское рабочее движение в Эрец-Исраэль в 20-х годах двадцатого века.
[5] Рош-ха-Шана – Начало года, Йом Кипур – Судный день, Суккот – праздник Кущей, следуют один за другим в месяце тишрей (сентябрь-октябрь григорианского календаря).
[6] Ханна Ровина – актриса театра «Габима». Театр-студия на иврите под этим же названием, что означает «сцена», существовал в Москве под руководством Евгения Вахтангова. В 1926 году театр, выехав на гастроли, не вернулся в Россию. Часть труппы, в т.ч. и Ханна Ровина продолжили свою деятельность в Эрец-Исраэль.
[7] «Белая книга» (третья по счету), опубликованная правительством Британии в 1939 году, отказывалась от взятых Британией обязательств о поддержке еврейского национального государства в Палестине, взятых в декларации Бальфура в 1917 году. Она ограничивала общее число евреев-иммигрантов в Палестине 75 тысячами человек в ближайшие пять лет. Дальнейшая иммиграция объявлялась возможной «лишь в случае, если арабы будут готовы согласиться с этим».
[8] «Бейтар» – военизированная организация для подготовки молодежи к защите еврейского ишува (населения) в Эрец-Исраэль и за её пределами.
[9] «Хагана» («оборона») – создана в 1920 году для защиты евреев и их имущества в Стране от нападения арабов, выступала против террора, в дальнейшем стала основой регулярной израильской армии – Цахала (Армии Обороны Израиля).
[10] «Пальмах» – элитная боевая группа внутри Хаганы.
[11] «Эцель» – Национальная Военная Организация. «Лехи» – «Борцы за свободу Израиля». Обе организации использовали террористические методы в своей деятельности.
[12] Имеется в виду библейская история об Иосифе и его братьях: из-за голода в Эрец-Исраэль братья Иосифа отправились в Египет.
[13] «Агада» (в переводе «сказка»), история исхода евреев из Египта, бегства из рабства, которую читают всей семьей в канун праздника Песах.
[14] Барон Гирш, банкир и меценат, родился в Мюнхене в 1831 году, был сторонником создания еврейского автономного государства, но не в Палестине, а в Латинской Америке.
[15] Чолнт – особое субботнее блюдо обычно из мяса, фасоли и картофеля, которое готовят в пятницу и оставляют на ночь в теплом месте, что только улучшает его вкус. Подают к утренней субботней трапезе.
[16] «Натурей Карта» (дословный перевод «Стражники города») – ультраортодоксальное течение иудаизма, противники сионизма, не признают государство Израиль.
[17] «коэн», мн. число «коэним» – потомки первосвященников, которые две тысячи лет назад служили в Храме. Обычно носят фамилии Коэн, Коган, Кац. Считаются в синагоге духовной аристократией и имеют определенные привилегии.
[18] «колель» – управление по делам общины.
[19] девятое Ава – день разрушения Первого и Второго Храмов, у людей религиозных – день поста.
[20] Танах – это сокращение, обозначающее три группы книг, составляющих еврейскую Библию: Тора (которая сама состоит из пяти книг), Невиим (Пророки) и Ктувим (Писания). В христианском мире все это называется Ветхим заветом. Талмуд – это комментарий к Торе, объясняющий, как выполнять её предписания, свод законов еврейской этики.
[21] «Вольные каменщики» или масоны. Первая Великая Ложа Вольных каменщиков образовалась в Лондоне в 1717 году. Сегодня в Израиле существуют 83 масонских ложи, которые объединяют 3000 человек.
***
Читайте также Шошана Цуриэль-Штерн. “Страницы истории Петах-Тиквы”
Опубликовано 17.11.2025, 23:50