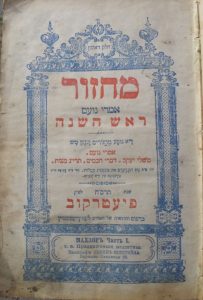Витебская очковая фабрика была эвакуирована в рабочий посёлок Суксун в июле 1941 года. С 6-8 августа 1941 года большинство бывших служащих и рабочих фабрики были устроены на Суксунский механический завод, который стал называться военный завод №17. Уже с декабря 1941 г. в Сускуне начали осваивать выпуск защитных очков для лётчиков. В дальнейшем – выпускать очки для танкистов, очковые линзы. В военную пору завод также изготовлял стационарные автоклавы, инфундирные аппараты, трахеостомические трубки, респираторы, специальные ламповые горелки, корпуса ручных гранат.
Директором нового предприятия был назначен директор Витебской очковой фабрики Меерсон Илья Абрамович (Эля-Абрам Хаимович). Главным инженером – Гауберг Арон Файвишевич. На период 1942 года по данным Книги приказов завода №17, на производстве работало около 350 эвакуированных. Среди них были латыши, немцы, поляки, евреи.
ЕСТЬ ГОРЫ, КОТОРЫЕ ВИЖУ ВО СНЕ…

Уроженца Суксуна, известного уральского журналиста и публициста Кортина Бориса Абрамовича все в Суксуне зовут ласково «Боря», несмотря на то, что Боре почти 70! Все – это его земляки – суксунцы и бывшие витебские девочки и мальчики, волей судьбы, заброшенные в годы войны в посёлок Суксун. В 2011 году Борис Абрамович написал и издал необычную книгу «Есть горы, которые вижу во сне…», рассказывающую об эвакуации в годы Великой Отечественной войны Витебской очковой фабрики на Урал в поселок Суксун.
Как зародилась такая идея у Бориса Абрамовича? Очень не просто. Суксунский историко-краеведческий музей с 1980-х годов собирал информацию по истории Витебской очковой фабрики. Эта тема нами, музейщиками, была поднята и к 65-летнему юбилею приезда в Суксун Витебской фабрики. Ещё задолго до работы над книгой я установила контакты с бывшими эвакуированными из Витебска. Мы общались, встречались. Но это уже были дети войны. Да и им было глубоко за 80. А сейчас из них совсем никого не осталось!
Уже к этому времени нами были собраны воспоминания участников событий тех лет, фотографии и документы. Борис Абрамович, часто бывая на своей родине – в Суксуне, захаживал в музей в гости. Тогда он ещё находился на службе у губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя, был начальником Департамента информационной политики, где проработал около десяти лет. В то время он особо не интересовался историей приезда в Суксун витебского предприятия.

Довоенный Витебск, семья Меерсон и Боярер
С чего же всё началось? Первый его вопрос нам был: почему на суксунском военном мемориале так много еврейских фамилий? Я рассказала ему, что работники Витебской очковой фабрики были преимущественно евреи. А в годы войны они ушли воевать на фронт из Суксуна и погибли. Поэтому здесь выгравированы их имена. Борис даже не предполагал, что больше половины рабочих и служащих Витебской очковой фабрики составляли евреи! Расспросы Бориса постепенно перешли на другие темы. Он узнал много нового, что его потрясло и впечатлило, и так постепенно к нему пришла идея о написания книги, чтобы отдать дань памяти своим предкам и людям, приблизившим Победу в тылу.
Он решил привлечь к написанию книги меня. И тогда получился своеобразный дуэт: я собирала, оформляла материал, а он его художественно обрабатывал. Хотя, сам он тоже записывал воспоминания очевидцев и неоднократно приезжал в Суксун для работы в архивах отдела кадров ОМЗ. Спасибо бывшему директору Витебской фабрики Меерсону Эля-Абрам-Хаимовичу, за то, что книги приказов он делал в трёх экземплярах! Вот почему в отделе кадров нашего завода они сохранились. И дали много информации для нашей книги.
Раньше Борис не задумывался глубоко над этой темой, он многое не знал, хотя его дед и бабушка, мать, дядя, тётя – Шульман. Все приехали в роковом 1941 году в Суксун из Витебска. В семье велись разговоры о том, как проходила эвакуация витебского предприятия, как ехали на Урал, Борис неоднократно всё это слышал из первых уст. Эти воспоминания также помогли ему в написании книги.
Работали мы с Борисом очень напряженно и плодотворно: я в Суксуне, а он в Екатеринбурге. За 9 месяцев книга была написана и вышла в свет 7 июля 2011 г. к 70-летнему юбилею приезда Витебской очковой фабрики в Суксун. А 6 августа 2011 года состоялась её презентация на Суксунском оптико-механическом заводе. Именно в эти дни 6-8 августа 1941 года большинство витебских работников фабрики были оформлены на работу на Суксунский завод. В это же время мы собрали на встречу в Суксуне витебских и суксунских «детей», кто подростками начинал работать на этом предприятии. Кто смог – пришли и приехали, с большим энтузиазмом поддержали нашу идею. Это была незабываемая встреча! А потом – прогулка по окрестностям Суксуна. Не забыли мы заехать на Верх-Суксунские горы, которые так всем памятны. Ведь с них открывается прекрасная панорама завода Суксун, который стал для многих второй Родиной.
РЫБИЙ ЖИР И СТАРОЕ КОРЫТО
Одна из присутствующих на той памятной встрече была Топычканова Тамара Петровна, которая поделилась с нами своими воспоминаниями ещё в процессе работы над книгой.
Воспоминания Топычкановой (Артемьевой) Тамары Петровны, 1939 г.р., пос. Суксун.
«1941 г. конец июня. Мне было 2 года 4 месяца, когда началась Великая Отечественная война. Отец Артемьев Пётр Артемьевич умер от болезней в 1940 году. Мама Елена Ивановна в то время работала на Витебской очковой фабрике китовщицей в шлифовочном цехе. С 18.11.1936 по 02.07.41.Уволена согласно КЗОТа от 47 п. А.
В это время Витебская фабрика эвакуировалась на Урал и была размещена на старом Суксунском бывшем демидовском заводе. С 06.08.41 мама уже была принята на завод в п. Суксун съёмщицей стекла в цех № 10.
Про эвакуацию из Витебска я помню со слов мамы и старшего брата Ивана (1925 г.р., ныне покойного) и сестры Нины (1924 г.р., ныне покойной). Оборудование фабрики, рабочие с семьями, были погружены в эшелон, который оправлялся из Витебска на восток. Ехали долго, состав обстреливали немецкие самолёты. Во время обстрела все пассажиры должны были срочно покинуть вагон, забрав детей и залечь подальше от состава.
Брат Иван рассказывал такой случай. В одном вагоне с нашей семьей ехали люди еврейское национальности со своим нехитрым скарбом. У одного одинокого мужчины-еврея всё богатство состояло из бутылки с рыбьим жиром и корыта, в котором стирали бельё. Видимо от растерянности и волнения в спешке (как на пожаре) не смог ничего взять с собой, как и все, не то, что нынешние беженцы. Когда немецкие самолёты бомбили состав, в котором ехали рабочие Витебской очковой фабрики, этот мужчина (имени его мой брат не запомнил) выбегал из вагона, захватив с собой бутылку рыбьего жира и корыто. Ложился, а, скорее всего, падал на землю и закрывался сверху корытом, читал молитвы о спасении. Пацанам это казалось смешным, (позднее они поняли, что тут не до смеха было…одним словом – война!) и они кидали мелкими камешками по корыту, а мужчине казалось, то это осколки от снарядов и он сильнее подпрыгивал. Корыто ходило ходуном. Парни смеялись. Но, когда он увидел мою маму с больным ребёнком на руках (у меня была страшная «золотуха», лицо покрылось коростами, была высокая температура. Эти болячки могли перекинуться на глаз, и я бы ослепла, врача в вагоне не было), тогда этот еврей подошёл к моей маме и протянул бутылку рыбьего жира, сказав, что он уже стар и одинок и это лекарство его не спасёт, но зато поможет спасти ребёнка, т.е. меня от слепоты. Жаль, никто не запомнил имени этого благородного мужчины, который, рискуя своим здоровьем, подарил мне жизнь, способность видеть и радоваться, любоваться красотой природы.
…Станция Киров. Поезд останавливается, чтобы пополнить запасы воды, угля, а мой средний брат Виктор (1927 г.р.) побежал с котёлком набрать питьевой воды и отстал от состава. Но мир не без добрых людей. По рации сообщили о том, что отстал подросток (ему ещё не было 14 лет) и на конечной станции Кунгур со следующим за нашим поездом, его доставил на вокзал милиционер. Некоторые пассажиры с нашего поезда были оставлены в г. Кунгуре (это рабочие с Витебской фабрики). Остальных пассажиров на открытых грузовиках отправили в Суксун, который для некоторых эвакуированных стал второй Родиной.
Когда машины с эвакуированными спускались с В-Суксунской горы, то открылась чудесная панорама посёлка Суксун, водная гладь пруда. И все облегченно вздохнули, что не дремучие леса с медведями, как представлялось многим, а красивое место. Проехав километра два от села В-Суксун, машины приблизились к небольшой деревне Опалихино, которая заканчивалась около мостика через р. Сандушку. И вот с этого мостика радость пассажиров сменилась на слёзы. Слева от р. Сандушки небольшой подъём, на склоне которого среди елей что-то белело…На улице было лето. Увидев белые насыпи, все подумали, что их завезли в такие края, где и летом не тает снег! Плакали и взрослые, а за ними и дети. Но когда шофёр объяснил, что это не снег, а кварцевый песок, все начали потихоньку успокаиваться, дети смеялись. Позднее, на эти пески мы, будучи подростками, бегали за грибами и ягодами».
ДОВОЕННЫЙ ВИТЕБСК

Соломон Арш
Каким он был глазами тех пацанов и девчонок, которые успели в нём пожить каких-то 10-12 лет, и вынуждены были в эвакуации обрести вторую родину? Об этом подробно рассказал очевидец тех событий Арш Соломон Максович, (1929-2018) проживавший когда-то в уральском городе Нижний Тагил. Ветеран труда, бывший начальник рельсобалочного цеха НТМК, кавалер ордена «Трудового Красного Знамени».
«Довоенный Витебск в моей памяти – это большой город (как потом выяснилось, 185 тысяч человек населения). Город промышленный. Преобладала, в основном, местная промышленность. Город очень чистый. Большое количество людей еврейской национальности. Имелась еврейская школа. А мы жили ближе к окраине. Улица Бебеля, дом 19. Дома, в основном, одноэтажные в этом районе. Неподалёку находился вокзал. Ну, и мы, пацаны, сочинили такой «самокат» из лестницы, на котором можно было кататься. И от моста книзу по асфальтовому тротуару, а улица брусчаткой была выложена, носились с воем, криком и так далее.
Город стоял на Западной Двине, и было два моста: старый и новый. Какой-нибудь элитной публики вокруг нас не было. В нашем дворе жили: один лётчик (его жена была чемпионкой Белоруссии по велоспорту. Он воевал в Испании – всё прошёл), учительница, машинист паровоза, брат его жены – кочегар. Здесь же в сарайчике они выращивали поросят. В соседнем подъезде (наш дом был одноэтажный, на четырёх хозяев – входы в квартиры с его углов) жил Шлёма – сапожник (он и пил, как сапожник), у них всегда стояла 5-литровая бутыль с пивом. И вся семья, до маленького ребятёнка, все пили пиво. Помню однажды, когда вот этому маленькому ребятёнку – девочке не дали пива, она билась головой об пол, требуя своего. В нашем дворе было два дома, а в середине – сад. Во втором проживала семья учительницы – еврейки Минухиной. В общем люди обычные: делали свою какую-то работу. Да и не очень-то меня тогда интересовало, кто что делал…
Любимое у нас, пацанов, занятие было – игра в сыщики-разбойники, из луков пострелять друг в друга, фехтовать на самодельных шпагах, гоняли тряпичный мяч, другого просто не существовало, играли в лапту, в городки…
В 1936 году меня, шестилетнего пацана, и старших братьев мама взяла на первомайскую демонстрацию. Все вокруг взволнованы, медь оркестров зовёт вперёд, барабаны задают шаг… Я к той поре научился читать. Так что, звонким детским голосом, чтобы видели все, какой я уже взрослый и грамотный, скороговоркой вслух читал транспаранты. Одна за другой шли колонны фабрик, артелей, организаций. Вот и наша, очковая, где отец трудился заместителем начальника технического отдела… Над демонстрантами – портреты руководителей, вождей партии, государства и своих работников, которые чем-то отличились. Смотрю, несут портрет моего папы и на нём написано: «Наш Эдисон».
В Витебске отец работал на заводе «Красный металлист». Работал фрезеровщиком. Я даже не знал об этом. Это потом, в Суксуне, Евмен Иванович Ильин как-то сказал: я, говорит, помню твоего батю, в 20-е годы – классный был фрезеровщик. Было это время, когда рабочих выдвигали на руководящую работу. Вот на «Красном металлисте» и поставили отца начальником цеха, в котором он работал фрезеровщиком. Отец был очень ответственным человеком, и понял, что надо учиться. Поступил в техникум на вечернее отделение, который закончил в 1935 году. А нас уже было… Четверо сыновей у него. Мама, конечно, поэтому не работала. Одновременно занимался изобретательством. В итоге, в 1935 году он был награждён орденом Трудового Красного Знамени БССР (тогда были республиканские награды). (Аркадий Подлипский уточнил, что этим орденом Макс Арш был награждён одним из первых в Белоруссии, в 1932 году). Таких людей тогда называли орденоносцами. И даже сколько-то им платили дополнительно. Я помню (а это было уже во время войны), что 15 рублей папа получал дополнительно и имел льготу: в магазине мог чего-то купить без очереди. Разумеется, без очереди к прилавку он не подходил.
Что вспоминаю из детского времени? Прежде всего, голод 30-х годов. Папа из печки кочергой вытаскивает печёные картошки. И делит между нами всеми. Работал он без выходных. Не помню, чтобы папа отдыхал. Даже с работы придёт, чего-то чертит. На столе у него стопкой лежали такие шуршащие листочки, синьками назывались. У них в углу было написано: «Секретно. Наркомат обороны». Даже зрительно их представляю. Эти синьки ему требовались для отчёта о работе над конструкцией пулемёта без ленты. Суть сводилась к тому, что патроны в этот пулемёт должны были загружаться, как в бункер, и затем по одному выдаваться задающим устройством. Приходили к нам в квартиру какие-то люди, что-то обсуждали. О чём шла речь, я, конечно, не знаю. Но мы, сыновья, видели: отец работает, работает и ещё раз работает».
ЖИЗНЬ В ТЫЛУ

Встреча на B-Суксунской горе
Дочь эвакуированного Раиса Ильина и труженица тыла Надежда Голоушкина
Семьдесят четыре года прошло со дня Великой Победы над фашизмом. Всё меньше и меньше остаётся ветеранов войны и труда, а память о горе и потерях, как острое лезвие по-прежнему проникает в самое сердце. Горе и страдание, боль и утраты помогли воспитать в том поколении стремление к достойной жизни, любовь к ней, самопожертвование, доброту, отзывчивость, трудолюбие. Есть что вспомнить и рассказать старшему поколению. Живы ещё те, кто помнит, как мальчишками и девчонками стояли у станков и трудились для фронта, для Победы. Живы ещё те, кто располагает предметными и документальными свидетельствами военного времени.

Станок Fortuna
Трудно пришлось обживаться и работать на новом месте жителям города Витебска. Не легче было и местному населению. Ведь у станков остались работать старики, дети и женщины. Поэтому общая беда сплотила людей разных национальностей и религий. Всё для фронта, всё для Победы – такой был общий девиз времени!
Воспоминания Надежды Николаевны Матвеевой (Голоушкиной), (1926-2018), пос. Суксун.
«Родилась я в деревне Опалихино Суксунского района в семье крестьянина. Работала на заводе с 1943 по 1988 г. Работали вместе с эвакуированными в цехе № 5 – это была сборка очков. Мастерами у нас были Ева Шапиро и Сосновская. У нас было две смены. Работали с восьми утра до восьми вечера, а если план не выполним, то оставались и после восьми работать, а там уж вторая смена придёт, вот и сидим!
В цехе пол был земляной, очень холодно. Там же была печка, и мы все к ней встанем бочком, чтобы обогреться. Мы были тогда маленькие ещё, но работали как взрослые. Я всех евреев хорошо запомнила. Добрые люди были! Никаких ссор у нас не было.

Илья Абрамович Меерсон на военных учениях, 6 июня 1941 г.
Директор Меерсон с нами как с ребятишками разговаривал, придёт в цех, поставит ногу на лавку (стульев не было) и говорит запросто. А сейчас? Какой начальник с тобой так станет разговаривать? Когда он к нам шёл, мы по запаху чуяли, что он идёт, то ли курил он, то ли одеколон у него такой был? А Гауберг Арон очень аккуратный ходил. И сам всегда ремонтировал станки, никаких мастеров не вызывали, если что-то сломается. У него в одном кармане была тряпка, а в другом – ключ! Однажды он нам с подружкой говорит: «Вот, вы подружки, даю вам талон на три метра ситца, сшейте себе кофточки». Хорошо помню токаря Евмена Ильина. Из Витебска тоже он был, его станок стоял в центре цеха, чтобы светло было ему! Работали почти голодными, кто что принесёт. Картошек принесём, положим на печку и там они испекутся, то рябины, то из огорода что-нибудь. Бывало, евреи у нас украдут из еды что-нибудь, а мы – ладно! Ешьте! Никогда не жаловались. У нас-то были огороды, и картошка была, а у них совсем ничего! И не обижались на них. Мы с подружками были деревенские, свои же нас всяко обзовут, мешочниками, да как! (Мы же юбки из мешковины шили). Нам обидно было. А евреи нас не обижали. Помню, прямо в цехе или в коридоре они учили нас танцевать всякие танцы. И в войну пели и плясали. Бывало, в конце рабочего дня, если план не выполним, нас оставят в цехе, а мы уж устали, положим доску, и прыгаем на ней да качаемся. Ночью-то спать хочется! И пойдём плясать. Ева Шапиро заглянет к нам и с сожалением говорит: «Милые девочки!» Когда объявили Победу, я была дома. В этот день на заводе все собрались на улице и все ревели. И всех потом домой отпустили. А мы обрадовались, что сейчас не надо будет работать по 12 часов! Подружки в войну говорили: «Да когда это всё закончится? Да когда мы дома на печах будем лежать?!» Но Победа для нас в семье не радостная была. Победа пришла, а брата нет! Погиб! Потом эвакуированные стали все уезжать, мы уж к ним привыкли. Прощались, ревели.
В войну и в колхоз нас посылали, и на сплав леса, так тяжело было! В цехе всё женщины были. Сами мастера, бригадиры, а потом с фронта мужики вернулись и убрали нас. Я проработала на ОМЗ до самой пенсии».
Как же в тылу в годы войны работал завод № 17, ставший после оптико-механическим? Местная газета «За коммунизм» от 24.02.44 г. напечатала заметку Герца Шульмана, бывшего корреспондента этой газеты, вернувшегося фронтовика-инвалида.
«Коллектив Суксунского завода может гордиться сейчас такими производственниками, как токарь Изя Альтбрегин из четвертого цеха, как Дрожжец и Осинская из шестого цеха и многими другими молодыми производственниками, которые ежедневно выполняют норму на 250-300 %».
В тылу не только приближали самоотверженным трудом Победу, но и посылали на фронт многочисленные посылки. Газета «За коммунизм» 7 ноября 1942 года писала: «Трудящиеся всего Суксунского района за время войны послали защитникам Родины много тёплых вещей. Среди них 1237 пар валенок, 242 полушубка, 404 шапки-ушанки, 621 пара шерстяных носков, 86 меховых жилетов и другие вещи».
На заводе трудились женщины и дети, и лишь немногие мужчины, у которых была бронь. На машинах тоже продукцию вывозили женщины. Это местные девушки – Лиза Овцына и приехавшая из Витебска Зина Ткачёва. Вся тяжесть мужской работы легла на их плечи. Грузовые машины, бывало, заметало в пургу в сугробы, а бывало, они застревали в грязных уральских дорогах. Вывозить продукцию военного завода девушкам приходилось на себе, не надеясь ни на кого.
Многие дети из Витебска в годы войны обучались в местных школах и Суксунском педагогическом училище. На старых учебных ведомостях можно встретить фамилии всех национальностей. Одна из лучших учениц педучилища – Циля Посылкина. Её отец Фридман и сестра Малка ушли на фронт. Циля учится только на «5». Она, к тому же, активистка и помимо учёбы принимала участие в сезонных сельхозработах.
В декабре 1941 года в Суксуне в здании педучилища разместился эвакогоспиталь № 4880 для выздоравливающих воинов. Многие девушки прошли шестимесячные курсы медицинских сестёр и ухаживали за ранеными. В том числе и девушка из Витебска Нина Петровна Артемьева (потом Ласточкина). Вскоре вместе с другими она была призвана на фронт и оказалась в рядах партизан Первомайской бригады в Белоруссии. После войны проживала в Бресте.
ЕВРЕЙСКИЕ ПЯТНИЦЫ И ТАНЦЫ ПОД БАЯН
Не смотря на войну и голод, народ не унывал и в цехах военного завода №17 звучали даже песни. Вот уж воистину говорят: «Чем жизнь голоднее – тем веселее!»
Воспоминания уроженки Суксуна Дементьевой Лидии Николаевны (1929-2012 гг.)
«…Я работала в войну на заводе на швейных машинах обшивальщицей. Хорошо помню Хаю Шульман, она как пташка пела. Мы не можем никак начать песню, она запоёт, и мы все подхватим. Очень она любила петь романс «Пой, ласточка, пой». Начальник цеха Словецкая не любила, когда мы пели. А вот инженер Сергиенко раз услышал и говорит: «С песней и работа спориться!». А иной раз Хая скажет: «Девки! Давайте танцевать!». Хотя все мы голодали. Хая Шульман и Моисей принесут редьку, положат на окно, а в обед отрежут – поедят. Хлеба давали 300 грамм, потом заводским стали давать побольше – 800 грамм. Поэтому на заводскую работу хлебушек многих заманивал. Директора завода Меерсона худым словом не поминаю, он мне всё наказывал – надо учиться!
По пятницам в заводской конторе были танцы. Мы их назвали «еврейские пятницы», потому, что у евреев накануне субботы вечером, уже начинался как бы выходной день. И они шли с нами в клуб. Мужики принесут баян, играют, а мы танцуем, Играли Николай Попов, демобилизованный по ранению и Мишка-«уразай». В артель «Медник» тоже бегали на танцы. Помню, что евреи на свою Пасху стряпали мацу и нас угощали. Жили весело! А когда после войны витебские стали уезжать – прощались с ними».
СТРАШНЫЙ ВРАЧ ИДА ЮДОВНА
Ида Юдовна Иделевич (в замужестве Камаева) работала в Суксунской районной больнице и была педиатром. Её стаж работы врачом насчитывал 50 лет! Меня в детстве часто водили в больницу на приём, и поход этот для меня был сильным шоком. Каждый раз, когда я слышала это имя, то вздрагивала, потому, что Ида Юдовна была не воспитательница в детском саду и не мамина коллега по работе, а врач! Не знаю, почему я эту приветливую и обходительную тётю жутко боялась? Эх, если бы тогда я просто подружилась с ней, как со многими бабушками и дедушками, то вероятно узнала бы очень много о её жизни, а эти бы сведения сегодня очень бы пригодились нам для истории! Но я с ней мало была знакома и впоследствии мы только здоровались. Я лишь знала, что она приехала в Суксун из Витебска во время эвакуации. Меня, подростка, тогда эта тема не сильно интересовала. В начале 1990-х её не стало. Её сын и муж умерли даже раньше, чем она, и в Суксуне у неё никого не осталось. Но мне было, видимо, суждено узнать про эту семью больше, когда пришло время.

Друзья с детства – Саломон Арш, Перла Иделевич, Константин Собакин
Прошло много лет, я уже работала в музее и в 2010 году судьба свела меня с её младшей сестрой, которая жила в Перми, Перлой Юдовной Иделевич. Это был год моих плодотворных расследований и написания книги «Есть горы, которые вижу во сне…» С Перлой Юдовной мы близко подружились, и общаемся до сегодняшнего дня, не смотря на то, что ей перевалило за 80. Она много рассказывала мне о том, как в тот сорок первый роковой год она вместе со своей семьёй и Витебской очковой фабрикой эвакуировалась в посёлок Суксун. Детская память отчётливо сохранила всё до мельчайших подробностей и довоенную беззаботную жизнь в Витебске, и новую трудную жизнь в незнакомом уральском заводском посёлке Суксун.
«Я закончила 4-й класс, было лето, солнечный, тёплый день 22 июня 1941 г. Я тогда посещала Дом творчества, и в этот день у нас должна была быть генеральная репетиция. Наш хор занял 1 место, и мы должны были ехать на Республиканскую олимпиаду в г. Минск. Мы все были счастливы, но в 12 часов, когда нас всех поставили на сцене, пришёл представитель от военкомата и объявил, что началась война с Германией. Мы, дети, ещё мало понимали, что такое война, но уже на обратном пути домой я это увидела. Через несколько часов уже летали немецкие самолёты. Мы шли возле железной дороги, и этот объект был им особенно важен. В первый день нас не бомбили, только разведка, а потом каждый день налёты и бомбёжка. Я не помню, какого это было числа, но где-то вначале июля всю очковую фабрику, где работал мой отец, эвакуировали. Нам дали два часа на сборы. Думали, что скоро вернёмся, через месяц-два, ничего лишнего не брали. Только пару чемоданов и самое необходимое. Вечером за нами заехала грузовая машина, и мы отправились в неизвестность. По дороге на вокзал (а было уже темно) нас обстреливали немецкие самолёты трассирующими пулями с бреющего полёта. Было очень страшно и очень красиво. Ведь пули были разноцветными, был как фейерверк. Но страшный фейерверк. К счастью, никого не ранило и не убило. А утром нас разместили в теплушки и мы отправились в путь.
Нас бомбили. Особенно мне заполнилась одна бомбёжка на станции недалеко от Москвы. Наш эшелон поставили на запасной путь, на главном пути стоял эшелон с солдатами. Когда закончилась бомбёжка, и наш эшелон не задело, мы, дети, побежали к главному пути, а там… уже никого не осталось. Разбитый эшелон, трупы молодых ребят, которые ещё не успели доехать до фронта. Нас туда не пустили, но мы всё это видели и слышали свист летящих бомб, взрывы и крики. Этот свист я очень долго помнила и долго боялась пролетающих самолётов. Это было большое потрясение.
Мы ехали на Урал. И вот город Кунгур. Нас высадили в большой роще за Кунгуром, потом приехали за нами подводы и мы отправились в Суксун, о котором ничего не знали и не слышали.
Разместили нас по квартирам. Нам досталась квартира по ул. Челюскинцев у Любимовых на втором этаже. Там было две комнаты. В большой комнате разместилась семья Якубовских, а в маленькой наша. Нас было шесть душ. Четверо детей и мама с папой. Мама уже тогда была тяжело больна и вскоре она умерла. Она в Суксуне прожила месяц, а может и меньше. Комната была холодная, в ней не было печки, и нам достали печку-буржуйку, которая обогревала. За дровами ходили в лес. Принесём хворост и шишки. Так и жили. Было холодно и голодно.

Семья эвакуированных Иделевич
В 1943 году брата забрали в армию. Ему едва исполнилось 18 лет. Он погиб в том же году. Имя его занесено в Книгу памяти. Отец – Иделевич Юда Залманович работал на заводе главным бухгалтером. Старшая сестра Ида Юдовна всю жизнь с 1947 г. почти до самой смерти работала районным педиатром. Она проработала врачом более 50 лет. Её и сейчас многие помнят. Есть у меня ещё младшая сестра Стера. Она закончила в Суксуне 7 классов и уехала в Пермь, поступила в мединститут, но не закончила его. Она вышла замуж за военного, и всё время разъезжала с ним. Сейчас она вдова, живёт в Кирово-Чепецке. У неё двое детей и четверо внуков. У Иды тоже был сын Михаил, который закончил школу в Суксуне. Но в 50 лет его не стало. Умер скоропостижно. У него остались сын и дочь, внуки. Живут они в Казахстане в г. Алма-Аты.
В Суксуне я пошла в 5 класс. Класс был очень многочисленный. Вообще до 7 класса они были очень многочисленными. Много эвакуированных и не только из Витебска, но и из Москвы. А после 7 класса многие ушли работать, учиться в педучилище и уехали. К 8 классу нас осталось совсем немного.
Несмотря на трудные годы, школа жила в полном смысле этого слова. У нас была хорошая художественная самодеятельность, хор, которым руководила Матильда Ивановна (не помню фамилии), драмкружок. Им занималась Ираида Николаевна Злобина – наш любимый учитель литературы. Она даже ставила «Полтаву» Пушкина. Я много выступала: пела, читала стихи. Почти все вечера мы проводили в школе. Было просто очень тепло, весело и интересно. И праздники у нас были с песнями, выступлениями и танцами. Ведь все мы были молоды и здоровы, и, не смотря на войну – жизнь продолжалась…»
СУКСУНСКИЙ… БЕЙТ- ОЛАМ.

Дети войны, 1950 г.
Жизнь продолжалась для молодых, тех, кто выжил и остался жив, а вот для матери Иды и Перлы – Берты Авсеевны жизнь закончилась в августе 1941 и суксунская земля приняла её первую из всех эвакуированных. Она открыла этот чёрный список. И за четыре года войны список умерших в тылу евреев и людей других национальностей пополнился.
По стечению обстоятельств захоронением умерших на местном кладбище занималась моя бабушка Токарева Анна Максимовна (1914-1999). Берту Авсеевну Иделевич она и предала земле. Во время войны бабушка работала конюхом на конном дворе при поссовете, где находился и коммунальный отдел. Муж в 1941 году ушёл на фронт, и она заменила ушедшего мужа. В 1944 году он погиб, и Анна одна воспитывала троих сыновей. Жила в тёмном подвальчике поссовета и каждый раз была свидетелем приезда эвакуированных. Их привозили грузовики, и первоначально все приехавшие располагались у бабушки на полу в одной комнате вместе с малолетними сыновьями. Бабушка рассказывала:
«Эвакуированных тогда ехала тьма, кто справный, а кто и вовсе босиком. Голодные, холодные. С ними и ремки (рваную одежду) свои приходилось делить. Вот, поведут их в чайную обедать, наедятся они с голоду-то, кто тут же захворает, а иные умирали сразу. Вот и кричит мне председатель: «Токарева, собирайся могилу копать, вон Кондратьева (рабочий был) в подмогу пошлю! А бывало, и без подмоги копала».
Она ничего за свой дополнительный труд не получала, кроме кулечка с отрубями, да и платили так мало, что на хлеб не хватало! Она рассказывала про такой случай. Приехала машина с эвакуированными. Один старый еврей ехал не в кузове, а в кабине и, видимо, угорел, только вышел, тут же упал и умер.
Не одна могила была вырыта бабушкиными руками. И малолетние сыновья тут же помогали матери забрасывать землей трупы эвакуированных людей, волей судьбы оказавшихся на чужой уральской земле.
Вслед за Иделевич Бертой Авсеевной и пятилетней девочкой Лией Абрамсон в мир иной от болезней и голода отправились и другие. А некоторые, как латышка Моника Силиулис, кончали жизнь самоубийством. Волей судьбы бабушка хоронила преимущественно евреев. Их захоронения находились на кладбище справа у забора. Так постепенно появился своеобразный «еврейский квартал». Особенно трудно было зимой, когда земля промерзала, поэтому копали неглубоко. Гробов никто не делал, хоронили без них. Памятников, разумеется, тоже никто не ставил.
Мой дядя Токарев Василий Николаевич (1936-2014), вспоминал:
«…Помню, в Суксуне в годы войны жило много евреев. Я дружил с Минькой Рудиным. Мать его звали Роза. Он недавно умер. Жил в деревне Кошелево. В годы войны мать моя Анна Максимовна работала на разных работах в поссовете. Жила в подвальчике внизу вместе с нами. Нас было трое: Иван, я, и в 1942 г. родился Колька. Помню, выгляну в окно, опять грузовики с эвакуированными в гору поднимаются, и всех к нам селят, как перевалочная база у нас была. А потом уже распределяют по квартирам. Придешь, бывало, вечером домой и спать некуда лечь. Приезжали в основном евреи. Их привозил шофёр Токарев (такая же фамилия была), привозил на ЗИСе-5. Все голодные, во вшах, больные. У кого какая котомка. Нас мать какой-то мазью мазала, чтобы не заразились. Вшей было много. А тут один еврей приехал и видимо угорел в машине. Вышел и умер. Евреи заревели: ой вэй, ой вэй! Мать его схоронила на кладбище. Мужиков в войну не было. Её всегда посылали, давали приказ копать могилы. И она многих тогда схоронила. А за это ей давали мешочек с отрубями. Она и нас этим кормила. Но мы вовсе голодом никогда не жили, что-нибудь да придумаем, найдём. Я тоже помогал закапывать умерших евреев. Хоронили их на суксунском кладбище, по забору. Сейчас зайдешь, так справа тут, у забора. Тогда ещё там не было захоронений и конторы-вагончика. Мать копала, я закапывал. Глубоко зимой не копали, земля промерзала. Мать говорила: «Глубоко не закапывай, они всё равно вылезут!» Мать одна быстрее мужиков справлялась с могилами, умела.
Младший брат Колька в войну родился, и сахара никогда не видал. А когда кто-то угостил его сахарком, он посмотрел на сахар и бросил под порог. Зато земляничное мыло любил есть! Придём домой, а он опять его вытащит и сосёт».
Родственники умерших людей на кладбище не ходили, поэтому мест захоронения кроме бабушки никто и не знал. Только после войны она показывала могилы тем, кто интересовался. Поэтому в настоящее время эти могилы-холмы «ушли» с лица земли или перекопаны в другие могилы и, где они были, никто, кроме бабушки и её сыновей не знал. За четыре года войны в Суксуне умерло примерно 40 евреев, включая детей. Недавно удалось установить фамилии ещё нескольких евреев, умерших здесь. Они по разным причинам не были зарегистрированы в районном отделе ЗАГСа.

Наталья Токарева и Соломон Арш

У Поклонного камня бывшие эвакуированные Тамара Топычканова, Соломон Арш и писатель Борис Кортин
В 2016 году на Суксунском кладбище, на том месте, где были еврейские захоронения, был поставлен Поклонный камень всем труженикам тыла, людям, умершим здесь в эвакуацию.
«ШУЛЬМАНОВ ТАКЖЕ МНОГО, КАК И ИВАНОВЫХ!»
Сказал Борис Абрамович, когда я спросила его, а не родственник ли ему редактор международного еврейского журнала «Мишпоха» Аркадий Львович Шульман? Ведь фамилия его деда, бабушки и матери была Шульман. И все они из Витебска! Борис Абрамович просто отмахнулся и не придал значение моим словам. Но я не унималась и продолжала настаивать, что нужно всё это проверить!
– Ведь, Ваш брат Герц Шульман писал в газету заметки, Вы тоже журналист, и Аркадий Шульман – тоже журналист! Это довольно странное совпадение?
Когда я познакомилась с редактором «Мишпохи» А.Л. Шульманом, то он с интересом стал расспрашивать меня о витебских евреях, эвакуированных в Суксун. На мой вопрос о родстве Б.А. Кортина и Шульмана, Аркадий Львович наоборот заинтересовался и сказал, что всё может быть…
Прошёл год. И вдруг, Борис Абрамович признаётся мне, что вспомнил, когда-то в их семью приходили письма, якобы от каких-то родственников из Витебска. Люди потерялись в войну, и искали своих близких. Сопоставив все факты, имена-фамилии Борис Абрамович и Аркадий Львович пришли к выводу, что они действительно являются троюродными братьями! Их деды, которые были братьями, действительно потеряли друг друга в годы войны. Так что родственники таки нашлись через 70 лет!

Борис Кортин и Рая Ильина
Когда Борис Абрамович приезжает в Суксун, первым делом он идёт навестить подругу детства «сестрёнку Раю». Так он называет Раису Евменовну Ильину. Он просит её посидеть с ним на старинной деревянной памятной скамье, что напоминает ему о прошлом детстве. Когда-то на улице Калинина, в одном из старых домов уживались дружно и весело сразу три эвакуированные семьи: белорусы Артемьевы, евреи Шульманы, поляки и русские Ильины. Была у них во дворе старинная скамья, на которой, бывало, долгими летними вечерами сидели представители этих семейств, вели разговоры о жизни. Евмен Ильин пел и играл на гитаре, Герц Шульман рассказывал стихи, трудолюбивые женщины Анна Францевна и Хая Герцевна хлопотали по хозяйству во дворе. Дети вдоволь резвились и играли возле взрослых. Эта скамья сохранилась до сих пор, хотя находится в другом доме на другой улице у Раисы Ильиной. Памятна она для Бориса Абрамовича. Посидеть на скамье, вспомянуть о былом ему удается только в дни его нечастых приездов на родину. Его тоже в Суксун зовут горы, которые многие ещё продолжают видеть во сне. Суксунские горы, ставшие символом Родины для многих поколений.
А на окраине Суксуна совсем недавно появилась новая застройка с улицей, которую назвали – Витебская.
Научный сотрудник
Суксунского историко-краеведческого музея
Наталья Токарева

Об авторе
Токарева Наталья Николаевна. Родилась в 1969 году в п. Суксун. Специалист экспозиционного и выставочного отдела Суксунского историко-краеведческого музея.
Работает в Суксунском историко-краеведческом музее с 1992 года. Основные темы исследования – демидовские заводы, металлургия, Гражданская война, репрессии, предприниматели Каменские, история священнослужителей и церквей, история медицины, а также ссыльные поляки, кантонисты… Автор многих публикаций (публикуется с 1989 г.) в краеведческих сборниках, местных, областных газетах. А также в газетах «Витебские вести» и «Авив» (Беларусь), Еврейском международном журнале «Мишпоха». Соавтор статей в книгах и журналах об истории Пермского края, Суксуна и его окрестностей. Автор книг: «Заводские» (2013 г.), «Особенный дом» (2015 г.), «Война на разрыв» (2018 г), посвященных истории завода Суксун и жителям Суксуна.
Опубликовано 15.10.2019 19:53